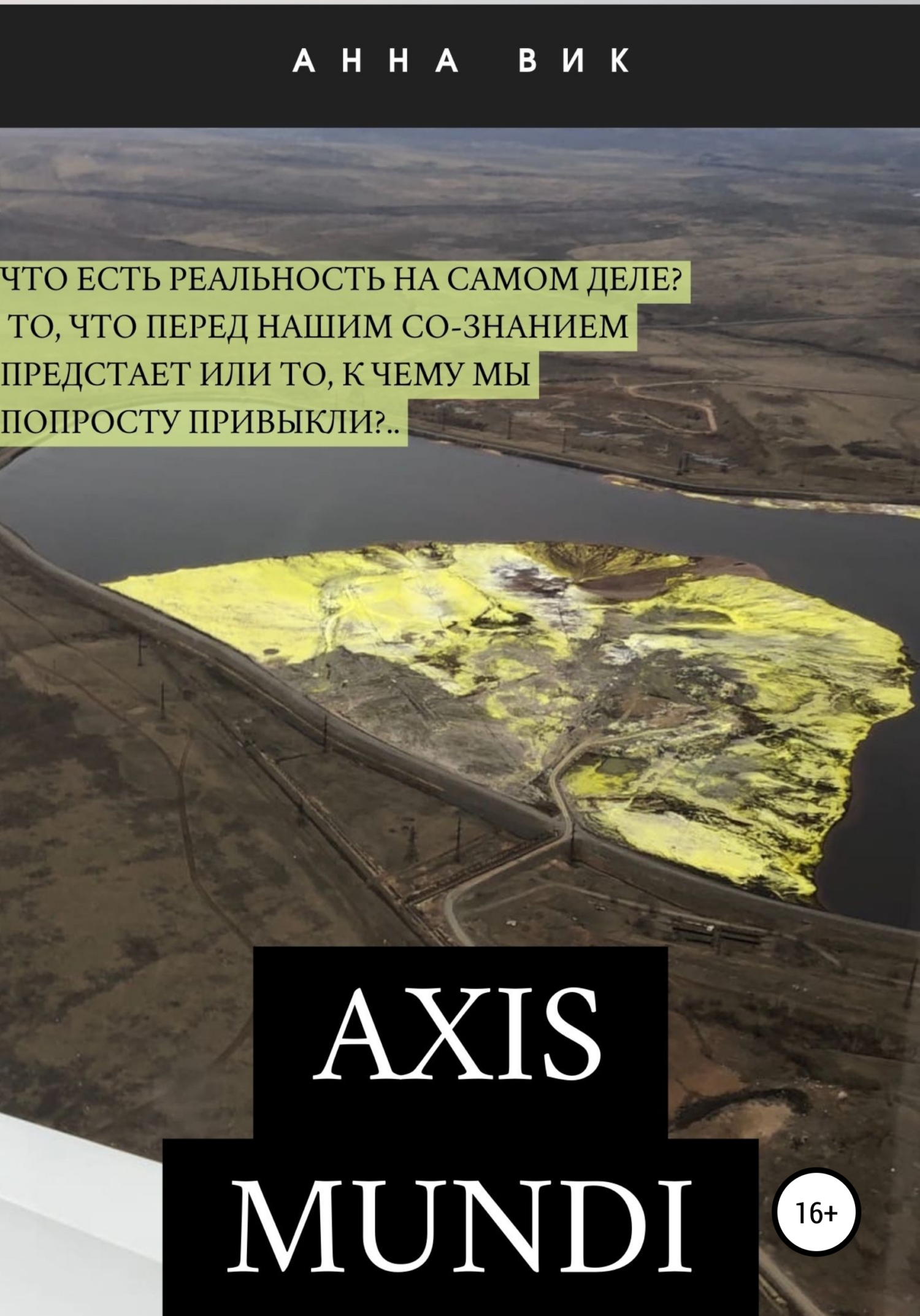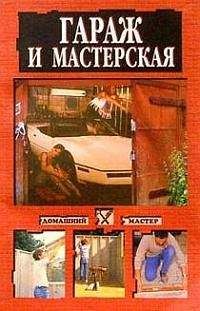мертвым в то же время. Художник же, наоборот, придаст чучелу такую посадку, такую позу, что птица кажется живой и что вот-вот сорвется она с места и полетит [362].
Комментарий Бонара акцентирует значимость художественных канонов репрезентации для таксидермической практики, которая в других контекстах (в первую очередь, музейном) могла представляться «объективным» отражением естественнонаучного знания, не имеющим самостоятельного визуального языка и отсылающим непосредственно к «реальности». В действительности научный и художественный аспекты таксидермии были неразрывно связаны и обусловливали друг друга: традиция репрезентации животных в живописи и скульптуре предопределяла их визуализацию в узкоспециальных контекстах, например, в естественнонаучной иллюстрации, которая, в свою очередь, использовалась как пособие при создании чучел. Для каждого вида существовал набор «канонических» поз и мизансцен, составлявший его визуальную идентичность, которой должны были соответствовать чучела, предназначавшиеся как для отделки интерьеров и модных аксессуаров, так и для естественнонаучных экспозиций. При этом понятие декорума превалировало над анатомической достоверностью: чучела должны были выглядеть эстетично, выражая приписываемое животным «благородство» и «подлинность». В то же время очевидно, что эти категории мыслились в антропоморфном ключе, транслируя, в частности, специфические представления о гендерных ролях. Американский этнограф и естествоиспытатель Роберт Шуфельдт, описывая в 1917 году диораму, представлявшую семью оленей вапити, из Национального музея естественной истории в Вашингтоне, утверждал:
Во всех отношениях эти животные выглядят так, как если бы они были живые. Интересно рассматривать их своеобразные выражения: уверенность самца в своей силе, мольба встревоженной самки и полная беспечность ласкового олененка. Отметьте также, как безупречно воссоздан снег, используемый в качестве «реквизита» [363].
Пространственная организация диорам и используемый в них «реквизит» могли заимствовать элементы религиозной иконографии и архитектуры: представления о «храме природы» получали визуальное и материальное воплощение в расположении групп животных, отсылающем к алтарю или рождественскому вертепу. Эти влияния свидетельствуют одновременно о секуляризации западных обществ, в которых наука постепенно становится новой «религией», и об огромном, сохранявшемся как минимум до начала XX века, авторитете, можно даже сказать – парадигмальном характере религиозной культуры, который в ретроспективе легко недооценить. Чучело попугая из «Простой души» Флобера находится на перекрестье научного знания (учитывая, что «прототип» Лулу был позаимствован писателем из музея естественной истории), статусной модной атрибутики и религиозных практик, проявляя их взаимосвязь в культуре XIX века. Еще одним важным аспектом этой культуры, выходящим на первый план во флоберовской повести, является повседневное присутствие смерти, закрепляемое сложными траурными и коммеморативными ритуалами. В этом контексте изготовление чучела может рассматриваться не как объективация домашнего питомца, а наоборот, как утверждение и увековечение его индивидуальности – подобно тому как локоны, состриженные с головы дорогих ушедших, посмертные фотографии, маски и слепки рук позволяли облечь память о людях в вещественную форму.
На протяжении XX века подобное отношение к смерти из центрального феномена западной культуры превратилось в маргинальное и патологизируемое явление. Вместе с тем ушли в прошлое или претерпели радикальную трансформацию многие другие значения, ассоциировавшиеся с таксидермией в более ранний период. Так, героизация природы как таковой и побед человека над ней сменилась тревогой по поводу сокращения биоразнообразия, разрушения экосистем и неотвратимости природных катастроф в качестве возмездия за бесчисленные злоупотребления природными ресурсами. Произведения современных художников, работающих с таксидермическими материалами, нередко затрагивают эту проблематику, а также переосмысливают статус животных как объектов научного познания. Однако критический потенциал подобных высказываний размывается в виртуальной среде, где, наряду с любительскими таксидермическими опытами, они могут подвергнуться дальнейшему «препарированию»: фрагментации, де– и реконтекстуализации в качестве цифровых изображений. Тем самым процесс конструирования «природы» и заведомая искусственность любых репрезентаций «естественного» выходят на первый план – но не проблематизируются и не связываются с идеей (зрительской) ответственности. Подобно персонажам флоберовского бестиария в постмодернистской интерпретации Джулиана Барнса, Упоротый Лис «оказывается не столько животным, сколько фигурой отсутствия» [364], однако это отсутствие уже не подразумевает тех эмоций, которые связывались с ним раньше: тоска по несбыточному (longing) здесь оборачивается пародией на саму себя.
Призрачное пространство в спектаклях in situ: эффект междумирья
[in situ]
Елена Гордиенко
Одной из черт современного театра является уход от привычного разделения сцены и зала. Эксперименты со сценой-трансформером и выстраиванием зрительского маршрута внутри театрального здания соседствуют с выходом за пределы сценической коробки, игрой в не предназначенных для театра пространствах: театр выходит на улицу, осваивает ангары, парковки, супермаркеты, вокзалы и больницы. Часть подобных проектов называют иммерсивными (от англ. immersive – создающий эффект присутствия, погружения). Предполагается, что, оказываясь в окружении актеров и других зрителей, в числе которых иногда могут быть и случайные прохожие, будучи «вписаны» в декорации, специально сделанные или найденные, участники будут не просто отвлеченно взирать на происходящее – но чувствовать себя частью созданного мира; что мир этот будет представляться целостной средой, а не набором отдельных прерывных сцен. В то же время во многих спектаклях, отталкивающихся от нетеатрального пространства и происходящих в нем – такие спектакли обозначают английским словом site-specific [365] или по-латыни in situ – возникает эффект не погружения, а, скорее, состояния «между». Восприятие балансирует между погружением и дистанцией, между прошедшим (часто это проекты об истории места) и сегодняшним днем, между ушедшей функцией места и сегодняшним его предназначением. Субъективное зрительское ощущение, тем более ощущение от пространства, в котором разворачивается спектакль, на первый взгляд, может показаться чем-то внележащим по отношению к самому представлению. Однако природа сайт-специфических проектов такова, что отношения с пространством являются для них не второстепенным, а сущностным вопросом, ведь режиссеры намеренно выбирают не просто новую сцену для показа или переноса задуманного, а уже существующее по своим законам место, со своими завсегдатаями, сложившимися практиками и ассоциациями. Очевидно, что помимо экономических причин, здесь есть и эстетическая мотивация. Театр, приходящий в бытующее не по сценическим законам пространство [366], нарушает привычный ход событий, ставит под вопрос сложившиеся иерархии и правила поведения, причем как в этом месте, так и в самом театре. Такой театр в равной степени обнаруживает театральность «реального» места и достоверность театрального события (не фабулы, но самого перформативного акта). Выбранное пространство служит функциональным вместилищем, декорациями – но одновременно как будто само напрямую говорит с пришедшими в него людьми. Задачей режиссера и художника часто становится не только принести внутрь места некое действие, но и высветить, сделать явными уже содержащиеся в нем смысловые слои, так что фикция и реальность здесь не противостоят друг другу.
Излюбленный театральными обывателями вопрос – «театр это или не театр» – в отношении многих спектаклей in situ не