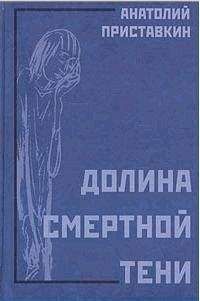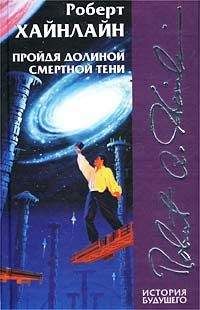Это была наша выработанная сообща программа. Оглядываясь через многие годы, с удивлением отмечаю, что именно такой категорический вариант смог уберечь наш островок милосердия от многих бед. В ту пору мы не заглядывали столь далеко.
Шахрай слушал, наклонив голову, и вроде бы соглашался.
И я тоже произнес в конце заготовленную мной фразу о том, что хотел бы работать в контакте с Президентом и чаще его видеть. Какой идеализм!
Но и это не вызвало иронического отношения со стороны
Шахрая, он как бы даже удивился элементарности такой просьбы и сразу же ответил: “Ну как же, обязательно”.
И, протянув на прощание руку, – встреча прошла за десять обозначенных минут, – с дружелюбной улыбкой, завершил свидание словами: “Так, значит, за работу?!”
И вот тут я, не удержавшись в режиме напускной строгости, добавил: “Наши дела идут хорошо, за работу, товарищи!” Это была концовка из какой-то речи Хрущева на съезде, ее тогда без конца цитировали в газетах. Шахрай сообразил и хмыкнул в усы, провожая нас до дверей.
Отчего я так подробно повествую о таком незначительном факте, как посещение на заре новой власти видного лица, решавшего судьбу моего назначения?
Ну, поговорили, посмотрели друг на друга и разбежались. В эти дни решались дела и поважней для судеб матушки-России, ну, хотя бы назначение, скажем, Гайдара в правительство страны или его решение, историческое (спасительное!), хотя мало кто тогда понимал: об освобождении цен.
Мне представляется нужным поведать, как в условиях победной эйфории, надежд и заблуждений складывалась эта власть и как ее вершители, волей судеб, в один августовский день получили прямо в ладошки старую и проржавевшую баржу-Россию, застрявшую на мели времени. Не сдвинуть. Здесь и великий
Петр, варварски прорезавший окно в Европу и заложивший в фундамент новой России несколько миллионов душ, не смог бы сдвинуть с места эту погрязшую в большевистском средневековье страну.
Нынешние же напоминали мне суетливую команду на той, прочно сидящей на мели, барже; вроде бы все что-то делают, но каждый свое, без общей капитанской команды, без огляда на других… И больше по мелочам.
Впрочем, картина будет неполной, если я не упомяну, что были и другие, которые на судне в ожидании отплытия торопились захватить каютку поуютней, а толкать баржу предоставляли другим.
Погруженные в поток повседневности нынешние, наверное, и сами вряд ли осознавали, что гребут наудачу, не ведая, куда их вынесет волна безвластия: на гребень или в пучину бед.
Сейчас-то оно куда видней.
Не знаю почему, но мне их даже жалко стало, как жалеют, скажем, слепых, видя на расстоянии, что идут они куда-то, чуть ли не под самый проходящий поезд…
Слепые поводыри слепых.
Ну а теперь добавлю, что и я, ненароком, случаем включенный в этот конвейер, ношусь со списком будущей Комиссии, пытаюсь искать совета у Ковалева, но у него уже свои проблемы, и он меня спихивает одному из своих помощников по имени Сеня, человеку бывалому, отсидевшему тоже в лагерях. Его, по словам Сергея Адамовича, уважали даже “воры в законе”.
“Ты его послушай, он все знает!” – произносит на ходу
Ковалев, загнанно озираясь, и исчезает на очередном заседании, посвященном предстоящей амнистии. Режим у него, и на глазок видно, на выживаемость, и он всюду и всегда опаздывает.
Сеня – человек здравый, окидывает опытным глазом список будущей Комиссии, прикидывает: “Это кто, еврей? Учти, твой состав не должен давать демагогам право (а они всегда найдутся!) говорить, что вот, мол, жиды собрались, чтобы решать судьбу русских… И еще один совет: среди осужденных много женщин, много нацменов… Введи кого-нибудь помоложе да попривлекательней… И кого-то из республик, из татар, что ли… Только не из твоей Чечни! А из писателей хорошо бы русачка вроде Можаева… Ельцин обожает таких…”
Я вежливо киваю: “жидков” поменьше… Женщину помоложе… И нацменов… Писателя эдакого, без примесей кровей… Все как бы с пользой для дела… Во имя нового… Но отчего-то не по себе. Или я, по глупости да неведенью, не разумею кадровых принципов этой новой власти?!
Едем с Сеней в скоростном лифте, который проскакивает какие-то этажи не останавливаясь. Один этаж, насколько я помню, президентский. Провожая меня в столовую, но не ту, которая для избранных, а которая “для всех”, Сеня говорит на ходу:
– А вы знаете, как вас нашли?
– Меня? Лично?
– И вас… Сидели, значит, у Ковалева, набросали списочек, большой такой! Но вас, кажется, не было. Это потом Кононов добавил… Каждого подробно обсуждали, просеивали… Кого-то отвергали… А другим стали звонить…
Коридоры, коридоры… Просторный зал самообслуживания, не лучше, чем везде. Столовский кисловатый запах, многолюдье.
Берем поднос, чего-то накладываем, садимся.
– А критерии? – спрашиваю я.
– Главный – против расстрелов… Ну, и авторитет, конечно…
Там в списке и Алесь Адамович был, и Фазиль Искандер, и
Булат… И Слава Кондратьев… Можаев тоже был, но до него так и не дошли…
Который день я продираюсь сквозь инстанции, как через заросли колючек, не однажды, случалось, попадал туда в горах, – прямо-таки ощущая кожей, как впиваются острые шипы в живое мясо.
Непроницаемые взгляды, вскользь брошенные слова, неотвечающие телефоны, невидящие глаза секретарш…
О, эти секретарши, верные хранители тайн, жестокие церберы с ангельским голосом, проницательно угадывающие даже по твоим шагам, насколько ты полезен и нужен шефу.
Вам, вам одним можно посвятить целые главы, книги, эпопеи, ибо никто не воспел, не открыл человечеству вашей решающей роли в те часы, когда творится история!
У меня даже пропуска пока не существует. Я, как последний проситель, простаиваю у парадных дверей, приходя к Белому дому, с утра, по слякотной Москве, в промокших ботинках, чтобы поставить чью-то очередную закорючку на оборотной стороне моего разнесчастного списка, в котором собраны воедино и Вячеслав Иванов, и Лев Разгон, и Фазиль Искандер, и священник отец Александр (Борисов), и Булат Окуджава, и другие мои друзья-товарищи… Собрал тех, кого любил… Не заглядывая в анкеты. А лишь в души.
Но, возможно, Сеня прав, я чутко улавливаю общее странное выражение лица, должное обозначать смесь недоумения и скепсиса: что это, мол, за новое изобретение Ковалева -
“помиловка” и кому она понадобилась в наше время.
Даже в какой-то момент проскальзывает словцо, заставившее меня вздрогнуть: ковалевщина.
Ну и вопросики, соответствующие отношению: если это так, на время, пущай себе, мало ли кого приближали к трону, а потом, опомнясь, гнали поганой метлой. Ну а если всерьез, то где же в моем списке господа министры, где прокуратура, суды, милиция… Где чины, которые…
Некоторые из вершителей выражаются ясней:
– А что ваши писатели, или как их… В юридистике-то понимают?
Вскоре это проявится в заявлении одного из главных милиционеров страны, мы-то, мол, не лезем судить Первый концерт Чайковского, а эти, от искусства, да со своим свиным рылом, да в наш, то есть в их, огород!
Или наотмашь, не без угрозы:
– Смотрите, смотрите… Потом захотите поговорить с Ериным,
Лебедевым, Степанковым, да поздно будет… Не придут!
Даже у сочувствующих те же заблуждения: состав, конечно, авторитетный, но сможет ли на профессиональном уровне решать? Как будто милосердие – привилегия правоведов, а не просто порядочных людей.
Да один Лев Разгон, которому за восемьдесят и который четвертую часть из них отсидел, все их законы на своем горбе вынес и закончил высшие юридические академии в лагерях… На лесоповале.
Но Ковалев свое долдонит.
– Ты их не слушай, – бурчит, насупясь, и, как всегда, на ходу, очечки болтаются на носу. – Нет таких академий, где бы учили милосердию. Юристов-то у нас, любых… пруд пруди… А вот тех, кто умеет жалеть…
В поисках выхода из тупика забредаю снова в кабинет Шахрая, теперь это совсем другой кабинет, на Ильинке, в бывшем идеологическом доме на шестом этаже. Вроде бы последним, среди правоверных марксистов, восседал здесь некий Полозков.
Шахраю я сказал по телефону так:
– Никто решать не хочет… А заключенные ждут…
Специально упомянул про заключенных, мне казалось, что этот довод способен пробить любого.
– Ну, зайдите, – чуть помешкав, говорит Шахрай. – И списочек ваш захватите…
В предбаннике, как и прежде, полно людей, и даже больше, чем прежде. Выходит он сам, подает руку: “Пойдемте”.
– Но тут еще к вам женщина…
Женщина, странное создание, без форм и без возраста. Некогда была доверенным лицом Президента в каком-то городке, теперь в награду за верность поставили чем-то руководить. С каменным лицом проходит в кабинет и застревает там на полчаса. Выходит с тем же каменным лицом и, никого не замечая, удаляется… Теперь иду я.
Шахрай внимательно выслушивает, лицо спокойное, усталое.