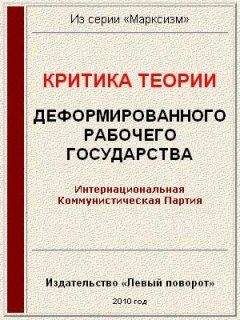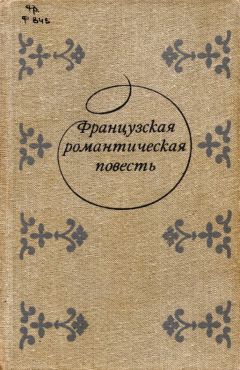- Боже мой, как разорена? Кем разорена? - спрашивал поручик Шатобриан.
- Разорена дворянской расточительностью и принуждена просить денег у третьего сословия, - был еще более суровый ответ.
Шатобриан бросает полк и, едва успев спросить разрешения, уезжает в родную Бретань. Он держится в рядах своего сословия на собрании трех сословий. Он одобряет отказ местного дворянства выслать депутатов в Генеральные штаты. Он громит буржуазию и вместе с соседями-феодалами обнажает шпагу и кричит: "Да здравствует Бретань!" Буржуа теснятся в страхе и разбегаются. Но король велел выбрать 600 депутатов от буржуазии, то есть вдвое больше, чем от духовенства, вдвое больше, чем от дворян. Генеральные штаты собрались в Версале. Шатобриан вернулся в Париж. По дороге беспокойство... В деревнях крестьяне останавливают экипажи, спрашивают паспорта, проницательно смотрят на путешественников. "Этого никогда не было,
Чем ближе к столице, тем волнение буржуазии и крестьян сильнее. Заседание Генеральных штатов открылось 5 мая 1789 года. Правительство ждало утверждения плана восстановления финансов, но третье сословие вдруг почувствовало, что оно - необходимая часть Штатов и заявило, что прежде чем дать деньги, надо пересмотреть все устройство государства, чтобы уравнять права всех трех сословий. Депутаты предлагали попам и дворянам соединиться, но, получив отказ и слыша о повсеместных волнениях Франции, 17 июня об'явили себя Национальным собранием. Король дважды пробовал распустить собравшихся, но безуспешно. Депутаты об'явили запрещение всех налогов, не проголосованных ими. Король, двор, офицеры встревожены. Шатобриан обеспокоен: у солдат найдены воззвания: не стрелять в беззащитных парижан, когда будет дан приказ в ночь на 15 июля о разгоне Национального собрания. Народные массы Парижа предупредили разгон Национального собрания уничтожением крепости Бастилии, самая страшная французская тюрьма была разрушена до основания. Историю начали делать какие-то новые, неизвестные силы. Шатобриан не только не понимал, что происходит, но и не хотел понимать... Он замышлял поездку в Америку и в 1791 году осуществил это путешествие. Едва ли ему хотелось на самом деле исследовать северо-западный путь к Новому свету. Но каких предлогов не найдет человек, стремящийся во что бы то ни стало переменить обстановку, которая его пугает! Шатобриан сам чувствовал такую огромную путаницу чувств и понятий, что его поездку скорее всего можно было назвать стремление уйти от самого себя.
В те дни, когда волна крестьянских восстаний прокатилась по французской провинции, когда вооруженные первобытным способом крестьяне, вторгаясь в замки помещиков, впервые знакомились с расположением дворянских комнат, разыскивали и уничтожали долговые записи, кабалившие их до седьмого поколения, в те дни, когда в Париже разразился гнев рабочих, страдавших от голода и безработицы, разгромивших владения фабриканта Ревельона и расстрелянных войсками, когда буржуазия, заседавшая в Национальном собрании, в виде уступки крестьянам постановила отменить второстепенные феодальные привилегии, когда голодающий Париж целым морем голов появился в Версале и вывез в Париж и Национальное собрание и королевскую семью с королем, крича о том, что "первый булочник и первая булочница" - король и королева - обязаны кормить не только себя, но и французскую бедноту, в те дни, когда началась массовая эмиграция напуганных дворян, - Франсуа-Ренэ Шатобриан, войдя на пристани Сен-Мало на атлантический корабль, уехал в Америку. Это не был побег, это было скитание неугомонного человека, стремление заглушить чувство безысходности и внутренней пустоты, овладевшие им в Париже.
Под влиянием министра Мальзерба, старого друга энциклопедистов, Шатобриан читал Руссо, Вольтера, атеистического Гольбаха, философов-материалистов XVIII века. Он сделался даже "свободомыслящим", он стал многое понимать в Париже, где общество ничем не напоминало Комбур. В отличие от домашних священников в Комбуре, парижские священники оказались весельчаками, атеистами, прекрасными рассказчиками эротических анекдотов, от которых у молодого Шатобриана кружилась голова. В Париже Шатобриан увидел портрет любовницы Людовика XVI - маркизы Помпадур, той самой, которая обошлась французскому бюджету больше, чем в сто миллионов золотых франков, той самой, которая стояла в центре дворянских увеселений и придворных балов, той самой, которая сказала бережливому и снисходительному супругу: "После нас хоть потоп", той самой, про которую коронованный любовник в день" ее похорон, видя, как гроб с ее телом выносят в дождливый день, выразился: "Мерзкую погоду выбрала маркиза для прогулки", - вот портрет этой самой Помпадур увидел Шатобриан в Париже: на мраморном столике перед женщиной с фарфоровым цветом лица и в белом парике стоял глобус и лежали книги в кожаных переплетах с надписями: "Диксионер наук, искусств и ремесл", "Дух законов" Монтескье, - книги, которые нанесли французскому самодержавию страшнейший урон. Шатобриан подумал, что эта опасная дворянская игра со свободною мыслью действительно вызвала потоп, в котором гибнет дворянство.
Шатобриан путешествовал. Он насмотрелся в американских степях на чудеснейшие картины природы, ознакомился с оригинальными бытовыми формами Нового света и, как собиратель насекомых, нанизал на иголки коллекцию своих поэтических образов. Он вволю намечтался в огромных лесах и равнинах, на охоте с краснокожими, побывал на Ниагаре, в Огайо. Полгода продолжались его скитания. Его впечатления отслаивались, забывался утонченный и грубый, аристократический, философский и ремесленный Париж. Уже наступили моменты поэтической кристаллизации впечатлений. Шатобриану казалось, что учение Руссо о естественном человеке, иллюстрируется наилучшим образом жизнью американских дикарей, что простые, естественные законы человеческих отношений могут быть до конца исследованы и прочувствованы им в Америке, когда он на пути из Албании к Ниагаре очутился со своим проводником впервые среди леса, которого еще никогда не касался топор. Он был опьянен запахами, зрелищем мощной природы, чувством независимости, чувством, которое было им утеряно со времени последних впечатлений от охоты в лесах Бретани под влиянием бурных и стремительных парижских впечатлений. Он шел от одного дерева к другому по лесной целине и с каждым поворотом говорил сам себе: "Какое счастье, здесь нет больших дорог, нет городов, нет ни замков, ни лачуг, никаких империй, никаких республик, никаких людей". И вот, когда он упивался этим одиночеством, зная, что указания опытного проводника не дадут ему сбиться с дороги, он увидел, на поляне человек двадцать татуированных индейцев, полунагих, с вороньими перьями на голове, с кольцами, продетыми через нос. Они танцевали. Из-за деревьев слышались странные звуки. Шатобриан приблизился и увидел - о, ужас! - индейцы танцуют самую, обыкновенную французскую кадриль, а маленький, завитой, напудренный, в парике французик, с кисейными манжетами, отчаянно пилит на скрипке, качая головой и в такт притоптывая ногами. Это был поваренок французского генерала, завербованный индейцами в качестве штатного увеселителя с платой бобровыми шкурами и медвежьими окороками. И тут "проклятая французская цивилизация> испортила естественного человека Руссо. Шатобриану казалось, что нет защиты от надвигающегося ужаса эпохи, а когда после полугодичных скитаний, подводя итоги на одной американской ферме, он раздумывал о своей судьбе, серый клочок газеты, попавшийся случайно на глаза, еще более его напугал: король Людовик XVI пытался бежать из Франции к враждебным армиям, собранным на границе королевства. Король отрешен от власти и под судом. На Марсовом поле - республиканская демонстрация. Во Франции провозглашена конституция. Все это было так серьезно, что Шатобриан немедленно собрался во Францию, прервав свое американское путешествие.
В январе 1792 года он высадился снова на французском берегу, проехал в родную Бретань, застал там подготовку контрреволюции, услышал плач отца и жалобы матери на то, что они совершенно разорены и, поддавшись их уговору, согласился на брак с девушкой, принесшей ему богатое приданое. Исполнив эти семейные обязанности, Шатобриан поехал в Париж. Непонятные события крайне его взволновали. Он бросился к Мальзербу, всегда дававшему ему прекрасные советы, но старый друг энциклопедистов разводил руками, он был крайне напуган, он говорил, что разыгрались стихии, что революция утратила разум, ибо на сцену выступила "неразумная масса", и когда наш американский путешественник осторожно намекнул Мальзербу на то, что у границ Франции скопились войска, что принц французской крови сосредоточил в Кобленце отряды роялистов, Мальзерб одобрительно кивал головой и дал свое либеральное благословение Шатобриану на эмиграцию. Шатобриан уезжает. Через некоторое время его видят в армии Конде "в седьмой Бретонской роте, в мундире королевского голубого цвета с горностаевыми отворотами". Но великолепное зрелище собственной персоны не могло закрыть от Шатобриана безалаберности, мотовства легкомыслия дворянской армии. Беспечное прожигание денег, игра в карты, песни и увеселения были главными занятиями контрреволюционного лагеря. Намеренно подчеркивали, не только сословную, но и внутрисословную разницу положений. Дворянские офицеры с древним гербом и с большим богатством пользовались преимуществам даже на аванпостах, а когда однажды в контрреволюционном лагере появились суровые лица бретонских горожан в черных одеждах с длинными волосами и спокойно предложили принцам свой тысячный отряд, готовый "умереть за бога и короля", тогда французские принцы первым делом поспешили дать этому мещанскому отряду особую обмундировку, унизительно отличавшую этих суровых и упрямых буржуа внешними знаками от чистокровных дворянчиков французской контрреволюции. Шатобриан скучал. Он записывал свои впечатления лагерной жизни, но чаще всего его карандаш заносил на бумагу свежие воспоминания путешествия в Америку. Офицеры его полка не могли придраться к его родословной, но их смешило литературное увлечение дворянина, их смешил его слог, совсем не похожий на легкомысленную и пустую, не лишенную изящества болтовню салонов. Выразительные и яркие характеристики Шатобриана, его патетическая меланхолия в рассказе о путешествиях казались им смешными. Поэт не находил понимания в среде офицеров и оскорблялся, когда они обрывали куски рукописи, торчащие за спиной из его военного ранца.