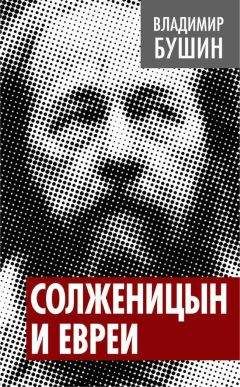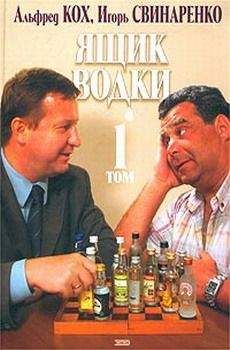Солженицын старается внушить нам, что «Власов был из самых способных» генералов, среди коих «много было совсем тупых и неопытных». Запомним хотя бы это: тупые и неопытные.
В воспоминаниях покойного Мартына Мержанова, присутствовавшего в числе других журналистов на подписании в Карлсхорсте акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, есть такое место: «Кейтель поднимает голову и смотрит на Жукова. Он видит его впервые. Жуков — тоже впервые видит Кейтеля. Какое-то мгновение два полководца двух огромных армий молча смотрят друг на друга… Я вспоминаю, что происходит Кейтель из юнкерской помещичьей семьи. Когда фашистские главари решили вероломно напасть на Советский Союз, они поручили начать нападение фельдмаршалу Кейтелю. Он уже был не только воинским чином, но и оголтелым нацистом. Он вошел во вкус легких побед, покорения, оккупации, веселых маршей. Война полными пригоршнями сыпала ему высшие награды и дарила особняки и поместья. Он думал, что так будет и в России… А сейчас мы смотрим на этого человека, лицо которого покрыто пятнами, а глаза вопрошающе устремлены на Жукова. Рядом с Жуковым сидят его товарищи по оружию, полководцы, вышедшие, как и он, из народа… И вот встал крестьянский сын — Маршал Советского Союза и, глядя прямо в глаза юнкерскому сыну — фельдмаршалу фашистской Германии, сказал:
— Имеете ли вы на руках акт безоговорочной капитуляции, изучили ли его и имеете ли полномочия подписать этот акт?
— Да, изучили и готовы подписать его, — сказал фельдмаршал, поправляя монокль…» Брезгливо подчеркивая простонародное происхождение наших маршалов и генералов, Солженицын не в силах был сообразить, на чью мельницу он льет воду, ибо вся штука-то в том и состояла, что эти сыновья крестьян и барских конюхов, сапожников и псаломщиков, машинистов и пожарных, учительниц и судомоек, эти люди, сами бывшие в юные годы пастухами и шахтерами, слесарями и столярами, голодавшие, бедствовавшие, учившиеся на медные гроши, эти мужики с внешностью, не соответствующей солженицынским представлениям о мужской красоте, — они разнесли в пух потомственных военных аристократов высочайшей выучки и огромного опыта.
Зачем мы не воевали как Дания!Странно видеть, что после всех его россказней об Отечественной войне наш летописец, однако ж, признает, что не фашисты взяли Москву, а мы — Берлин, что война закончилась не их, а нашей победой. Но уж ничуть не странно другое: нашу победу он объясняет тем, что мы воевали не по правилам. Корит нас, в частности, за то, что на захваченной врагом территории действовали партизанские отряды, совершались диверсии на железных дорогах, не работали школы, саботировались попытки наладить работу разного рода управ и т. п. Стыдит свою родину: смотри, мол, неумытая, как аккуратно да культурно обстояло на сей счет дело в других-то царствах-государствах. Вопрос о допустимости или недопустимости нарушения нормального хода жизни при оккупации, назидательно говорит он нам, «почему-то не возникал ни в Дании, ни в Норвегии, ни в Бельгии, ни во Франции. Там работали и школы, и железные дороги, и местные самоуправления». Он ставит в пример нашей родине Данию! Он возмущен, почему мы не равнялись на Норвегию! Он негодует, зачем наша страна не воевала, как Бельгия и Франция!.. Приводит такой довод: «Все знают, что ребенок, отбившийся от учения, может не вернуться к нему потом» Как же это — все знают, а мы не посчитались! Разве не ясно что войну нам надлежало вести так, чтобы не нарушить цельность и стройность учебно-воспитательного процесса в школах, а это успешнее всего достигалось бы ограничением активных боевых действий рамками ежегодных школьных каникул: два-три месяца летом, две недели зимой и неделя — в конце марта.
Впрочем, Солженицын не совсем нрав, когда утверждает, что на оккупированной советской территории не работали школы, кое-где немцы их открывали. Жители Керчи до сих пор не могут забыть приказ № 3 немецкого коменданта города о возобновления школьных занятий: 245 явившихся по этому приказу школьников по другому приказу были отравлены.
О том, что мы воюем не по правилам, не отступаем, где полагается отступать, не сдаемся, где принято сдаваться, и т. п. — об этом нашему народу приходилось слышать уже не раз. Всем памятно рассуждение Толстого в «Войне и мире» о двух противниках, вышедших со шпагами на поединок по всем правилам фехтовального искусства. Они фехтовали довольно долго, но вот один из них был ранен, и тогда, «поняв, что дело это не шутка, а касается его жизни, бросил шпагу и, взяв первую попавшуюся дубину, начал ворочать ею».
Толстой говорит, что вот так и было в войне 1812 года: фехтовальщик, требовавший борьбы по правилам, это французы; его противник, взявший дубину, — русские. Французы говорили, что по правилам их войска всюду на чужой земле должны находить теплые квартиры, по правилам нельзя нападать на их транспорты, по правилам следует вообще прекратить партизанское движение, по правилам при вступлении их императора в Москву его обязана была встретить почетная депутация и вручить ключи от города, по правилам…
«Несмотря на жалобы французов о неисполнении правил, — продолжает Толстой, — дубина народной войны поднялась со всею своею грозною и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с тупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие».
Да, раздавались и раньше упреки в том, что русские воюют «не по правилам», но до сих пор мы слышали это от побитых противников, а от русского, от человека, служившего в нашей армии, такой упрек довелось услышать впервые. И ведь при этом ему и в голову не приходит упрекнуть Гитлера, допустим, за его приказ «О выжженной земле», отданный 19 марта 1945 года, когда война вовсю шла на немецкой земле. Выполнение этих приказов, пожалуй, тоже несколько затрудняло и функционирование органов местного самоуправления, и движение на железных дорогах, и работу школ… Но молчит наш летописец-правдолюб, ибо в его глазах достойно осуждения все то, что делали мы на захваченной немцами нашей земле, и заслуживает одобрения все то, что делали фашисты и на нашей, и на своей земле, занятой Красной Армией.
БЕСТСЕЛЛЕР ДЛЯ МИТРОФАНУШЕК
В своем повествовании, сосредотачивая интерес главным образом на самой личности Солженицына, я не ставил задачей дать разбор или хотя бы развернутую оценку всех его произведений. Из них наиболее полное представление читатель получил об «Архипелаге ГУЛАГ», страницы которого здесь обильно цитировались, пересказывались, разбирались. Развороченные нами вороха анекдотических нелепостей, горы малограмотного вздора, бесконечные потоки маниакальной лжи, клеветы, злобы, болезненные фейерверки саморекламы и похвальбы — все это «Архипелаг». Но есть необходимость сказать о данном сочинении еще несколько слов, ведь оно — «Главная книга» нашего героя! Он называл ее «скосительной», он уверен, что ее назначение — «менять историю», и не меньше.
Надо признать, что на некоторых читателей, у которых эмоциональность подавляет аналитические способности, «Архипелаг» производит известное впечатление. Особенно — то обстоятельство, что чуть ли не две тысячи его страниц обильно уснащены цитатами, ссылками, конкретными названиями, именами, датами, цифрами и т. п. «Да ведь это же все документально!» — восклицают читатели. На множестве примеров самого разнообразного характера мы показали подлинную цену этой документальности».
Что касается хотя бы имен и названий, то Солженицын весьма строг к этому в чужих произведениях и прямо-таки негодует, когда их там нет. В одной статье, например, рассказывалась драматическая судьба бывшего преступника, ставшего честным человеком, и по этическим соображениям, как всем понятно, фамилия его не называлась. Но наш правдолюб не желает с этим считаться, он возмущен: «Некий Алексей, повествуют «Известия», но почему-то фамилии его не называют, якобы бежал из лагеря на фронт — и там был взят в часть майором-политработником, фамилии майора тоже нет…» В итоге он объявляет рассказанную историю выдумкой, ложью. Но вот, например, на страницах 287–288 второго тома «Архипелага» читаем 13 леденящих кровь историй о беззаконии. В 9 из них нет ни имен, ни дат, ни места происшествия, а только атрибуции такого рода: «портной», «продавщица», «заведующий клубом», «матрос», «пастух», «плотник», «школьник», «бухгалтер», «двое детей». В остальных четырех историях есть кое-какие имена и названия, но они до того расплывчаты и неопределенны, что, в сущности, тоже ничего не дают. Так, в одном случае нам сообщается только то, что жертву беззакония, которая где-то ко-гда-то распевала веселые частушки; звали Эллочка Свирская. Возможно, это одна из наперсных подружек самого автора, поэтому он и считает позволительным в суровой книге назвать ее столь интимно-ласково, но от этого она не становится для нас личностью хоть сколько-нибудь более определенной и достоверной. Мы хорошо понимаем (да и все понимают не хуже нас), как легко убрать частушечницу Эллочку Свирскую и на ее место поставить, допустим, сказительницу Аллочку Мирскую… В другой истории нам встречаются в неизвестном количестве «неграмотные старики Тульской, Калужской и Смоленской областей». И опять: ничего не стоит заменить их, скажем, грамотными старухами Рязанской, Брянской и Псковской областей или даже всего Нечерноземья… Одна из этих историй начинается так: «Тракторист Знаменской МТС…» Нет имени тракториста, но зато точно названа МТС — это, кажется, уже немало. Но увы, действительно только кажется, ибо Знаменские районы есть в областях Смоленской, Омской, Тамбовской и Кировоградской, да еще в Орловской области, в Донецкой, на Алтае есть поселки Знаменка, да в Калининградской области — поселок Зна-менск… Вот и ищи ветра на просторах шести областей, равных по территории едва ли не половине Европы!