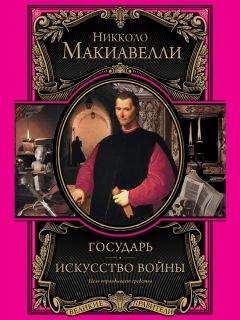Например, в фильме «Клуб неудачниц» (реж. Дж. Мак-Кэй, 2001) молодой плейбой, разнорабочий и по совместительству органист в местном церковном приходе, подробно описывает то, как, манипулируя с помощью музыки настроением присутствующих на похоронах людей, он заставляет их задуматься о своих грехах, раскаянии и вечности, заведомо зная, в каком месте гармонической модуляции прихожане начнут плакать. Схожие полномочия пастыря заблудших душ берет на себя и органист-охранник профилактория преступлений в блокбастере Стивена Спилберга «Особое мнение» (2002). На первый взгляд этот герой лишь винтик в системе, но именно под его присмотром оказываются тела несостоявшихся преступников, для которых он играет на органе, тем самым как бы поддерживая необходимый духовно-нравственный климат (в то время как автоматизированная система поддерживает климат для пребывания их тел в анабиозе). Два других, более знаменитых органиста современного кинематографа претендуют распоряжаться уже не только душами, но и судьбами. Морской дьявол Дейви Джонс («Пираты Карибского моря») порабощает души людей, превращая их в полуразложившихся призраков, а конгениальный Эрик («Призрак оперы») заправляет всем театром, заставляя и труппу, и зрителей поверить в свое безоговорочное и безграничное господство. И то, что оба этих далеких от нравственных идеалов героя периодически предаются игре на органе, вступает вразрез как с изначальным образом инструмента, так и с традиционной картиной мироздания.
В истории культуры орган неразрывно связан с христианством и является главным музыкальным инструментом католического богослужения. В этой религиозной картине мира посредством звуков органа с людьми общается сам Бог, а органист — проводник Божьего гласа на земле. В случае же с Дейви Джонсом и Эриком властью Бога наделяется уже тот, кто сидит за органом, но на самом деле является дьяволом. Схожий мотив подмены рая адом прослеживается в недавней экранизации «Великого Гэтсби» (реж. Баз Лурман, 2013), когда оснащенный органом и залитый неоновыми огнями особняк Гэтсби на самом деле оказывается вертепом. Категории добра и зла перевернуты, а орган в свою очередь должен знаменовать размах и непререкаемость власти героя.
Любая проекция универсума, в том числе и явленная в виде музыкального инструмента, неминуемо затрагивает тему соразмерности власти Бога и возможностей человека. В фильме «Легенда о пианисте» (реж. Дж. Торнаторе, 1998) эта дилемма выливается в ключевой драматический конфликт. Главный герой фильма — блестящий пианист-самоучка Дэнни Будманн — родился и всю свою жизнь прожил на корабле, курсирующем между Европой и Америкой. Единственный раз в жизни решив сойти с трапа корабля, Дэнни так и не смог совершить этот поступок, испугавшись бесконечности открывавшегося перед ним мира. Корабль, как и клавиатура рояля, являет собой строго очерченное пространство, а мир, по выражению Дэнни, — это рояль Бога, несоразмерный простому смертному. Пианист не решается сойти с корабля, так как считает, что сядет за чужой рояль, музыку которого он не в состоянии сыграть. В итоге Дэнни отказывается и от блестящей карьеры, и от любви, и даже от собственной жизни, обрекая себя на смерть вместе с подлежащим утилизации судном. Рояль из универсума превращается в гроб, в котором заключены нереализованные таланты и несбывшиеся надежды героя.
«Легенда о пианисте» — это история противостояния двух миров. Есть мир Дэнни с непрерывной музыкальной импровизацией, с нарисованными звуками портретами людей и человеческих эмоций. А есть объективный мир — суровый и бесконечный, в котором, чтобы выжить, необходимо действовать и бороться. По ходу фильма мир Дэнни, эпицентром которого является рояль, неотвратимо исчезает, разрушается под напором внешних обстоятельств. Стихия звуков оказывается слишком призрачной, плохо поддающейся фиксации[292] и оттого непрочной, предельно уязвимой. В конечном итоге из двух развертывающихся на экране универсумов настоящим оказывается тот, что находится за пределами рояля и корабля, и именно этот мир одерживает победу над миром Дэнни.
Однако в современном кинематографе есть и обратные примеры, когда выясняется, что универсум, в котором существует герой, является насквозь вымышленным и лживым, а подлинная реальность, более того, подлинное сознание самого героя оказывается заключенным внутри рояля.
Такая модель мироустройства явлена в самом что ни на есть мейнстримном образце современной киноиндустрии — блокбастере Лена Уайзмана «Вспомнить все» (2012). По ходу действия фильма, события которого разворачиваются в 2032 г., главный герой обнаруживает, что пребывает в «реальности», искусственно вживленной в его сознание, — ему заменили имя, биографию, профессию, жену и даже воспоминания. Стремясь прорваться сквозь круговой заговор, герой добирается до своей прежней квартиры, посредине которой стоит рояль. К своему удивлению, он умеет играть на этом инструменте — пусть нескладно, фальшиво, но под его пальцами рождаются отрывки сонат Бетховена, которые в свою очередь становятся ключом к появлению на крышке рояля виртуального дисплея. На этом дисплее герой не только видит себя прежнего, но и вступает со своим подлинным «я» в интерактивный диалог, узнавая, кто он есть на самом деле и в чем заключается его миссия.
Рояль в данном контексте оказывается своеобразным черным ящиком памяти, местом хранения (или даже захоронения) предыдущей жизни героя, которая возникает из небытия и возвращается к нему, словно воскресшая душа, вновь обретшая свое тело. Интерпретировать данную мизансцену можно бесконечно долго, находя в ней все новые смысловые пласты. Например, как высокие технологии будущего органично встраиваются в корпус музыкального инструмента из прошлого. Или, что даже если у человека стирают память и вживляют чужое сознание, его музыкальные навыки остаются при нем, то есть располагаются где-то глубже подкорки и не подлежат отчуждению ни при каких обстоятельствах. Главный же посыл прослеживается в следующем: при всей иллюзорности, второстепенности и необязательности мира музыки именно она может стать спасительным выходом из окутанного ложью и опасностью чужого мира. Кинематограф пытается увидеть свет в тоннеле безрадостного будущего, и мир не безнадежно потерян ровно до тех пор, пока в нем остается время и место для пары нестройных аккордов бетховенских сонат.
* * *
Проследив целый ряд фильмов, привлекающих в свое повествование музыкальные инструменты, мы наблюдаем, как присутствие, казалось бы, частной, отвлеченной детали может выстраиваться в особый пласт смыслов, не всегда считываемых с ходу, но, во-первых, оказывающих важное влияние на драматургию фильма, а во-вторых, вскрывающих важные проблемы современного общества.
Нельзя не признать, что в современном кинематографе символика музыкальных инструментов получает новую жизнь — столь популярно, разнообразно и насыщенно их присутствие в фильмах. Однако эта востребованность отнюдь не являет собой упорядоченную систему символов, которая прослеживается, например, в библейских текстах. Кинематограф не стремится к систематизации и универсализации значений, закрепленных за теми или иными музыкальными атрибутами, несмотря на то что создает в их отношении определенные штампы.
В музыкальном инструменте для кинематографа ценна именно невозможность однозначного толкования. Любой музыкальный инструмент может пониматься как угодно, возникать в каком угодно контексте и нести произвольное содержание. Он становится самостоятельным элементом современного киноязыка, так как перестает быть привязанным к какой-либо исторической традиции, но, прежде всего, должен работать на развитие сюжетной линии и развлечение зрителя. Музыкальный инструмент удобен тем, что его появление в фильме создает некий эстетизированный вакуум, который зритель может по своему усмотрению заполнять любыми смыслами и образами. Несводимость к единственно верной модели интерпретации как раз и есть искомое преимущество музыкального инструмента в кинематографическом тексте. В фильме сразу же появляется и смысловой, и зрелищный объем, прорисовывается запоминающаяся фактура, создается целый пласт дополнительных образов.
Характер присутствия музыкальных инструментов в кинематографе демонстрирует предельную свободу обращения современной культуры с символами культуры прежней, классической. Больше нет негласного трепета перед миром музыки и ее атрибутами, которые столь очевидны еще у Феллини, хотя с момента выхода его «Репетиции оркестра» прошло чуть более трех десятилетий. Теперь кинематограф самостоятельно, не оглядываясь на авторитет прошлого, определяет контексты, в которых уместно появление музыкальных инструментов, и типажи героев, которым на этих инструментах суждено играть. Также свободно варьируются степень «вживления» музыкального инструмента в драматургию фильма и закрепляемые за ними значения. Однако кинематограф не учитывает одного — обращение к классической культуре и ее символам, как рентген, высвечивает то, что происходит с культурой нынешней. Другими словами, интерпретация классики ставит диагноз прежде всего современности.