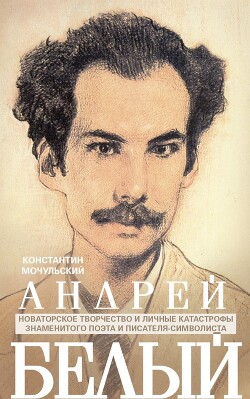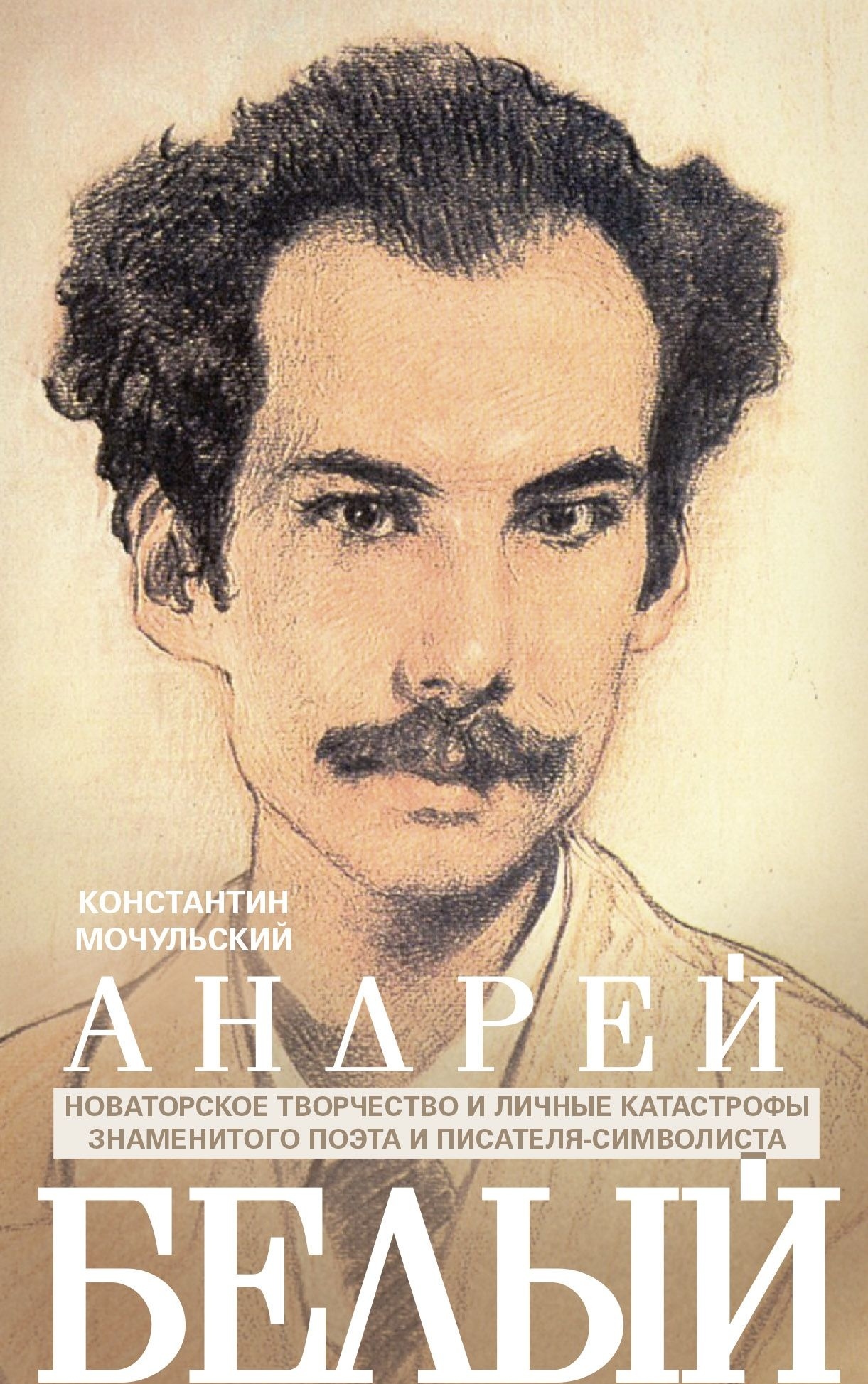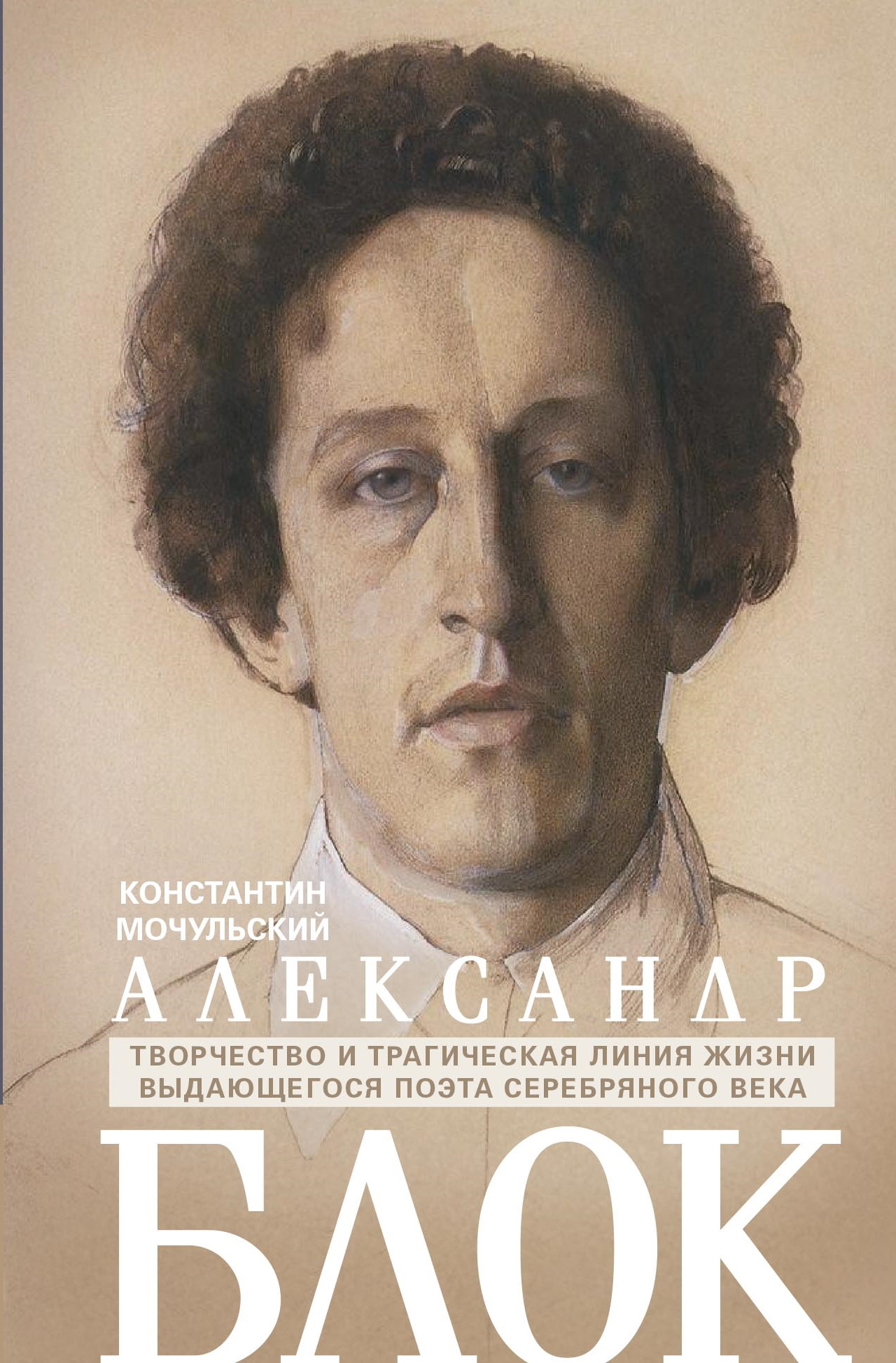Одержимый жаждой разрушения, Белый глумится над прошлым, и прежде всего над своим прошлым. Начало века теперь для него «доисторическая бездна», в которой жили не люди, а гады и орангутанги. До 1917 года никакой русской истории не было: был «ледниковый период». Литературная жизнь Москвы изображается чертами грубого шаржа: не то это балаган, не то – дом умалишенных. Сатанист Мандро – изысканный денди, посещающий Общество свободной эстетики и любящий на досуге почитать стихи Брюсова. «Мандро залегал на кушетке: раскрыв переплет синекожный, прочел он „Цветы Ассирийские“. Драма „Земля“. Из Валерия Брюсова знал наизусть:
Приподняв воротник у пальто,
И надвинув картуз на глаза,
Я бегу в неживые леса,
И не гонится сзади никто.
У Валерия Брюсова часто „гонялись“ в стихах, и Мандро это нравилось. Очень любил „Землю“ Брюсова: там рисовалось прекрасно, как орден душителей постановляет гоняться по комнатам: петлю на шею накидывать».
После карикатуры на Брюсова следует клевета на Блока. На заседании «Эстетики» происходит следующий разговор:
«– У Вибустиной было премило… Балк (Блок) вместо „пети жё“ предложил всем мистерию…
– Ну?
– Вы – прозаик там с „ну“. Ну, кололи булавкой Исай Исааковича Розмарина и кровь его пили, смешавши с бордо. Ну, ходили вокруг него, взявшись за руки!
– Дезинфицировали?
– Что?
– Булавку.
– Конечно… Фи донк!»
Вот и все, что осталось в памяти коммуниста Белого от мистических зорь начала века.
В 1924 году в Госиздате выходит книга Белого «Одна из обителей царства теней»; в 1928 году – в издательстве «Федерация» появляется «Ветер с Кавказа. Впечатления». В 1929 году он издает свое исследование «Ритм, как диалектика и Медный Всадник» (изд. «Федерация»).
В последние годы жизни Белый возвращается к своим работам о ритме русского стиха. Со времени появления его замечательных статей о морфологии русского четырехстопного ямба (сборник «Символизм») возникла целая школа стиховедения. Исходя из «открытий» Белого, она подвергла суровой критике его «статистический метод». В конце 20-х годов бывший символист чувствует себя одиноким, непризнанным, окруженным врагами. Его книга «Ритм, как диалектика» полна горьких жалоб и полемических выпадов. Он пишет: «До стиховедческих профессоров, кабинеты Брюсова и Вяч. Иванова были первыми стиховедческими студиями… Мой метод статистики, морфологического изучения костяков процвел – против меня; 17 лет меня бьют… можно сказать одной второй меня самого… Получился удивительный факт: Андрей Белый еще в 1910 году начал то, что развили другие: и – провалился в молчание: эти другие 18 лет под формой „критики“ нелепостей Белого брали у него его исходный пункт, а недалекий малый Белый где-то в молчании благодарил и кланялся». И исследование завершается «самооправданием».
«Борясь с теориями А. Белого, – пишет автор, – и уличая А. Белого в ошибках, профессор Жирмунский бьет не по Белому 1910–1927 годов, а по Белому 1906–1909 годов, по Белому, предоставленному самому себе плавать в море вопросов систематики, статистики и разрешения всех спорных случаев чтения, о которых в те годы не писалось и не „прелось“. Человеку, одним пальцем пишущему статьи по гносеологии, другим полемизирующему с „мистическим анархизмом“, третьим пишущему роман „Серебряный голубь“, четвертым – стихи и пятым – разрешающему до него неразрешенные случаи версификации, не грешно впасть в ту или иную ошибку».
Новое исследование Белого о ритме «Медного всадника» по своей причудливости и произвольности стоит за пределами «науки о стихе». Сложными способами, в которые мы не можем здесь углубляться, он вычисляет «кривую ритма» пушкинской поэмы… Вырезав ножницами отрывки, стоящие на среднем уровне кривой, и склеив их вместе, он получает главную тему «Медного всадника»: величие, строгость, планомерность, дежавность: образ в стиле ампир. Но в этот имперский строй врывается нечто романтическое, опрокидывающее порядки: какой-то Евгений, посидев на сторожевом, имперском льве, не вернулся домой. Отрывки, стоящие на более низких уровнях кривой, усиливают этот контраст: «внутри гранитов и строго-стройных чугунов завелась какая-то неурядица: с одной стороны „роковая воля“ Всадника, ломающая судьбы; с другой – ужас человеческого страдания и возмущения». Искусное сплетение этих двух ритмических тем определяет собой композицию поэмы.
Но Белый не довольствуется этими скромными выводами. Он хочет доказать, что герой поэмы не Петр, а Николай I, «стабилизовавший личность Петра тем, что влил в него свою николаевскую личность самодержавия». И тогда, спрашивает он, «не есть ли Евгений – один из многих, один из тысяч восставших? Не есть ли ноябрь-декабрь? Несчастие Невских берегов – не наводнение, а подавление декабрьского восстания: расправа с декабристами». Свою неожиданную догадку Белый подкрепляет следующими неубедительными домыслами: «И озарен луною бледной…» Медный всадник – ясно, это Николай, а не Петр; он несется за восставшим Евгением: арена преследования – Сенатская площадь…
Первая тема ритма, императорская, есть хитросплетение шифра: верхняя тема, поскольку она касается какого-то там чудака, в шифре не нуждается…
«Была ужасная пора»… Ужасная пора – николаевский режим.
Автор предвидит возражение: Пушкин любил «Петра творенье» и своей поэмой прославил «строителя чудотворного». Как из «хвалы» Петру можно вывести «обличение» Николаю? Белый этим не смущается: он утверждает чудовищную мысль: творчество художника бессознательно; он сам не понимает, что пишет, ибо творит не он, а творит через него коллектив.
«То, чем живет в нас Пушкин, – заявляет автор, – не имеет никакого отношения к Александру Сергеевичу, рефлектирующему над смыслом „Медного всадника“. Этот последний, например, может полагать, что он написал „во здравие“ Николаевскому режиму, между тем живое бытие образов в диалектике их течения, в музыкальном контрапункте уровней кричит этому режиму: „за упокой…“
Произведение творится до акта зачатия его в душе художника – коллективом; от коллектива к коллективу – вот путь творчества; но этот путь идет не чрез абстрактное сознание, а чрез волю: сознание творящего в художнике коллектива воVлит телу: и на воле отзывается воля к ритмам… Ритмическая кривая и есть знак подлинного смысла, меняющего неподлинный смысл…»
Парадоксальность вывода – смертный приговор методу. Если язык ритма говорит исследователю прямо противоположное языку образов и слов – то или произведение не художественно, или исследователь заблуждается. «Медный Всадник» не «хитросплетение» секретных шифров, но целостное произведение, живущее неразложимым единством формы и содержания.
Белый заканчивает свои изыскания цитатой из Розанова. «Показ – неудачен, быть может, – пишет он, – быть может, бездарен я в нем. Но я знаю, что тема моя талантлива. Этим повторением афоризма Розанова я и заканчиваю свой очерк».
Изучение «ритма как диалектики» – тема действительно «талантливая»; и, несмотря на «неудачный показ» Белого – ей принадлежит будущее.
Последние годы жизни Белый занят писанием мемуаров. Весной 1929 года он работает над хроникой «На рубеже двух столетий», которая выходит в издательстве «Земля и фабрика» в 1930 году; во второй половине 1930 года он приступает к переработке текста «Начала века» 1923 года. Эта вторая часть хроники появляется в издательстве «ГИХЛ» в 1933 году; наконец, в 1933 году автор заканчивает третий том воспоминаний «Между двух революций». Эта книга, вышедшая в Издательстве писателей в Ленинграде, помечена 1934 годом; в действительности она появилась лишь в 1935 году, уже после смерти Белого. В сентябре 1933 года, смертельно больной, он начал диктовать продолжение своих воспоминаний, но скоро так ослабел, что вынужден был прекратить диктовку.