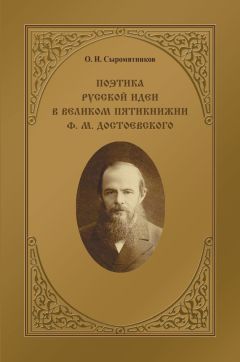Снова — поверх барьеров, снова разрыв, который у Пастернака всегда предвещает творческий взлет. Но если возвращаться — на каких условиях? Какую дистанцию занять по отношению к общей жизни?
Еще до Берлина Пастернак примкнул к «Левому Фронту Искусств» (ЛЕФу), центром и лидером которого был Маяковский — один из немногих «равных» в поколении. Примкнул так, как примыкал всегда к любому течению, — условно? Место занял — поближе к краю. После же Берлина окончательно стало ясно, что ЛЕФ (и его кормчий) движутся в неприемлемом направлении. А именно к растворению в революционном деле, к нивелировке художественных манер и почерков до «шершавого языка плаката». И главное — провозглашают, что место поэта — в рабочем строю; в гуще масс. Что призвание его — быть не свидетелем, а деятелем, не созерцателем, а участником, «колесиком и винтиком» общего механизма. Медленно, но верно назревал новый разрыв — не только с ЛЕФом, но и с одним их трех «Донецких, горючих и адских», — Маяковским.
Л. Флейшман в книге «Борис Пастернак в двадцатые годы» (Мюнхен, 1981) обратил внимание на демонстративное сближение «послеберлинского» Пастернака с теоретиком и практиком поэтической «зауми» Алексеем Крученых. В этом сближении с проповедником «зауми» был вызов проповедникам деятельной, «плакатной» литературы. Лучше самоценная игра звуком, чем подчиненное задачам строительства нового общества искусство. Значило ли это, что Пастернак отрицает необходимость самого строительства? Нет, иначе первой же его публикацией по возвращении из несостоявшейся эмиграции не стало бы «первомайское» стихотворение. Значило ли это, далее, что он не хотел «труда со всеми сообща / И заодно с правопорядком»? Что споры о мазуте, «трагедия ВСНХ» — для него слишком мелки и следовало бы предпочесть им нечто более возвышенное? Нет и еще раз нет. Он трагически переживал необходимость отъединения: «Но как мне быть с моей грудною клетиой / И с тем, что всякой косности косней»? («Борису Пильняку»). Но в том-то и дело, что для него поэтическое призвание трагично по определению «искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться» («Охранная грамота»). Если же художник покидает «бедственное место» и становится в общий строй, он облегчает свою нравственную участь, отрекается от трагедии, изменяет призванию. И символично, что именно в ЛЕФовской среде ожила Платоновская утопия об идеальном государстве, в котором не должно быть места художнику, — стихи о вакансии поэта во многом были и репликой по адресу ЛЕФовцев.
Сгустком этих раздумий в 20-е годы стала поэма (точнее — отрывок, набросок, разросшийся в самостоятельное целое) «Высокая болезнь». Здесь предельного накала достигает пастернаковская философия «заложничества» культуры в плену времени, неуместности и — одновременно — неустранимости «вакансии поэта» в реальной истории.
Жизнь, свершающаяся вокруг, полна величия и смуты. В «Высокой болезни» Пастернак развивает тему давнего своего стихотворения «Болезни земли» из «Сестры моей жизни»:
(…) Надо быть в бреду по-меньшей мере,
Чтобы дать согласье быть землей.
Земля больна, она в муке родов: «Рождается троянский эпос». Она обезумела, бытие бредит — в нем столько всего намешано, что рассказать о нем можно лишь спонтанной, сбивчивой, перескакивающей поверх барьеров логики речью. Больше того, единственной формой жизни стала смерть: «И сон застигнутой врасплох/ Земли похож был на родимчик»; «И снег соперничал в усердьи / С сумерничающею смертью».
И в это самое время «Высокая одна болезнь / Еще зовется песнь». Эта «другая» болезнь точно так же неизлечима. От нее никуда не денешься, она настигает, как чудо, «врасплох» и — хочет того поэт или не хочет — вырывает его из средостения Истории. Один «бред» как бы перебивается другим. Безличная болезнь земли — высокой болезнью поэта.
Образ, доставшийся ему по наследству от русской поэзии XIX века, Пастернак развивает по-своему. Он говорит не о «черни», преследующей художника, но именно о мучительность его «пассивной» роли в болезненной драме Истории и о трагизме его «бездеятельности»[114]. Перефразируя стихотворение «Болезни земли» применительно к смысловому нерву поэмы, можно сказать; нужно быть в бреду по меньшей мере, чтобы дать согласие быть поэтом.
Сменить роль свидетеля на роль деятеля не удастся, как ни издевайся над собой, как ни шути с горечью. (Чуть ниже Пастернак назовет себя и свое поколение «Высокой болезни» «музыкою чашек,/ Ушедших кушать чай во тьму», и язвительно вывернет наизнанку строку из пушкинского «Пророка»: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли…» — «Проснись, поэт, и суй свой пропуск»).
Роль деятеля отведена другому — и поэтому отрыве» завершается картиной выступления Ленина на IX съезде Совете», где Пастернак присутствовал, а его отец делал наброски (по-своему «свидетельствовал»):
Чем мне закончить мой отрывок?
Я помню, говорок его
Пронзал мне искрами загривок.
Как шорох молньи шаровой.
(…) вдруг он вырос на трибуне,
И вырос раньше, чем вошел.
Единственное, что объединяет Поэта и Деятеля. — это острое чувство небывалости Истории, готовность разорвать «глупый слой лузги» я обратиться к «голой сути» (звуковая близость этих сочетаний, игра на «г», «л», «с», только подчеркивает смысловой контраст). Все вокруг поглощены мелочами, мимолетным. А мелочи преобладали (…)», «Но я о мимолетиом (…)». Все сливаются в едином порыве пошлости — будь то пошлость интеллигентского эфстства или пошлость революционной фразы. И только Поэт я Деятель («герой») слышат биение исторического пульса и обладают правом «дерзать отпервого лица». Поэтому в финале «Высокой болезни» скомканная речь, как бы разбегающаяся в попытке отразить мелочи и «лузгу» жизни, вдруг сменяется чеканной и почти ораторски-прямой: выздоровление стиля предвещает и преодоление «болезней земли»… А все образы поэмы отступают в тень, чтобы высветить только двоих — Автора и Ленина. Созерцателя и Делателя. Чтобы свести их в немую сцену, глаза в глаза:
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути.
Прорвавшей глупый слой лузги.
(…) Столетий завистью завистлив.
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей,
И только потому — страной.
Тогда его увидев въяве,
Я думал, думал без конца
Об авторстве его и праве
Дерзать от первого лица.
Из ряда многих поколений
Выходит кто-нибудь вперед.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.
Авторство, лицо, поколение — ключевые слова цитаты[115], да и всего «отрывка» в целом. Только тот действительно представляет свое поколение, кто выходит и него — вперед, кто дерзает от первого лица. (Вот в чем сюжетная необходимость появления Ленина в финале, а совсем не в революционном пафосе, как иногда дело представляют: у поэта можно найти и резкие высказывания на сей предмет, вплоть до обещания писать «без лени и стали» — в письме двоюродной сестре О. М. Фрейденберг.) Но беда тому, кто, выйдя из своего «круга», попадает в новый «круг», сливается с «темной силой», которую должен бы вести за собой.
А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила
За подвиг, если не за то.
Что дважды два не сразу ста
А сзади, в зареве легенд
Идеалист-интеллигент
— Печатал и писал плакаты
— Про радость своего заката.
Так в творчество Пастернака окончательно входит тема Маяковского — а это, понятно, он «Печатал и писал плакаты. Про радость своего заката. Тема великого поэта, подчинившего «высокую болезнь» нуждам эпохи (в то время, как сам был — эпохой!) и попытавшегося стать деятелем, делателем, практиком реальной жизни.
Важная деталь: за год до «Высокой болезни», в 1922 году, Пастернак сделал стихотворную надпись Маяковскому на экземпляре «Сестры моей — жизни», где почти слово в слово предсказано описание ленинского выступления на IX съезде Советов, но с прямо противоположным знаком:
И Вы с прописями о нефти?
Теряясь и оторопев,
Я думаю о терапевте,
Который вернул бы Вам гнев.
Но отчего же ленинские слова о мазуте вызывают душевный подъем, а Маяковскому с упреком брошено: «Вы заняты нашим балансом,/ Трагедией ВСНХ»? Единственно потому, что у каждого свой путь, для поэта «трагедия ВСНХ» — это «своды богаделен», тогда как для работника истории обращенье к фактам экономики, в том числе и к «прописям о нефти» — дело жизни, ибо