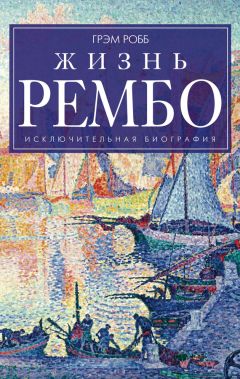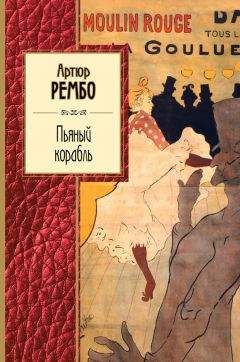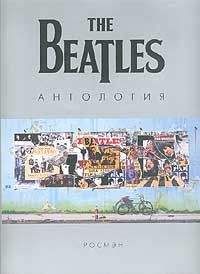Ознакомительная версия.
И меня устрашает зима, потому что зима – это время комфорта.
[…]
Однако это канун. Пусть достанутся нам все импульсы силы и настоящая нежность. А на заре, вооруженные пылким терпеньем, мы войдем в города, сверкающие великолепьем.
К чему говорить о дружелюбной руке? Мое преимущество в том, что я могу насмехаться над старой лживой любовью и покрыть позором эти лгущие пары, – ад женщин я видел! – и мне будет дозволено обладать истиной, сокрытой в душе и теле».
«Путешественников подготавливают быстро».
«Таймс», 25 мая 1874 г.
Кафе «Табуре» по соседству с театром «Одеон» было одним из тех легендарных заведений, куда из поколения в поколение заходили посидеть литераторы. Клиенты делились по возрасту и репутации на говорящих и слушателей, и даже в расстановке столиков была незаметная иерархия. Среди завсегдатаев были Этьен Каржа, на которого нападал Рембо двадцать месяцев тому назад, и бывший «Иоанн Креститель с Левого берега» Рембо – Леон Валад, который после объявления появления нового «гения» в октябре 1871 года так больше и не написал о нем ни слова.
1 ноября 1873 года изрядно обносившийся молодой человек, который выглядел «атлетического вида крестьянином» с «кирпично-красным лицом»[499], тяжелой походкой вошел в кафе и уселся за пустой столик. Голоса понизились до шепота. Это был демон, который «погубил» Верлена. Само его присутствие в «Табуре» было оскорблением литературы.
Только два человека попытались заговорить с ним. Одним из них был слабый поэт по имени Альфред Пуссен, который приехал в Париж за наследством и пытался войти в литературный мир. Рембо напугал его выражением «брутальной раздраженности» на лице, которое Пуссен запомнил на всю свою жизнь[500].
Другой из тех, кто пытался завести разговор, мгновенно стал приятелем[501]. Поэт Жермен Нуво был невысоким коренастым провансальцем с красивым лицом и приятной привычкой осторожно противоречить всему сказанному, в надежде найти более интересный угол зрения. Он был на три года старше Рембо. Хотя Нуво успел растратить небольшое наследство, он не проявлял никаких признаков желания найти работу.
Вместе с Раулем Поншоном и Жаном Ришпеном, которые получили копии «Одного лета в аду», Нуво принадлежал к небольшой группе, которая называла себя Les Vivants («Живыми»), в отличие от мумифицированных парнасцев, или, как Рембо, кажется, называет их в «Одном лете в аду», «друзьями смерти»[502]. Нуво читал удивительные стихи, которые циркулировали в Латинском квартале («Офелия», «Искательницы вшей» и, возможно, «Гласные»), и был одним из первых подражателей Рембо – что доказывает, что Рембо знал, задолго до того, как покинул Европу, что у него есть «ученики»[503].
Рембо отказывался обсуждать стихи, которые он написал в шестнадцать лет. Вместо этого он говорил о волшебной стране туманов по ту сторону канала, где люди более «интеллигентны», где практически невозможно заскучать. Видя в Нуво замену Верлену, он продал свою идею провести сезон в Англии, и Нуво согласился присоединиться к нему в его следующей экспедиции.
Когда Жан Ришпен услышал, что Нуво познакомился с homme fatal[504], то забеспокоился: «Энергичный, смелый и блестящий Рембо, который был гораздо более известен в то время своими приключениями с Верленом, чем своими произведениями, – вскоре обрел очевидную власть над Нуво. Слабая и возбудимая личность, Нуво имел нервный темперамент чувственной женщины, которая находит силу неотразимой»[505].
Подготовив, таким образом, очередное приключение, «неотразимый» Рембо возвращается в Шарлевиль, чтобы переждать зиму.
Ближайшие пять месяцев были бессодержательны. Рембо, наверное, работал над стихами в прозе «Озарения». Он рисовал свои образы на фоне знакомого пейзажа, используя грамматические конструкции, которые звучат так, будто они могли когда-то нести простые аргументы:
«Надо идти по красной дороге, чтобы добраться до безлюдной корчмы. Замок предназначен к продаже. – Ключ от церкви кюре, должно быть, унес. – Пустуют сторожки около парка. Изгородь так высока, что видны лишь вершины деревьев. Впрочем, не на что там посмотреть».
(«
Детство»
)«Я не жалею о прежнем участии в благословенном веселье: трезвый воздух этой терпкой деревни энергично питает ужасный мой скептицизм. Но так как скептицизм этот ныне не может найти применения, а сам он предан новым волненьям, – то не ожидаю своего превращения в бесконечно злого безумца».
(«
Жизни»
)Это была ничейная земля между философиями. Церковь заперта, святой праздник закончился, и «Сатана» пребывает в поисках новой работы. Оба отрывка имеют особый тон «терпения» и ожидания, что придает образам Рембо своеобразную неизбежность. В обнаруженной правке черновика «Одного лета в аду» он заменил «разрушительную ненасытность жизни» на «губительную силу», как если бы «ненасытность» и «сила» были синонимами, или как если бы просто аппетит был просто пропитанием.
Мадам Рембо написала Верлену в своем письме, что «человек, все пожелания которого гарантированы, а желания исполнены, конечно, не был бы счастлив». Уроки, полученные в детстве, как ни жестоки они были, всегда утешение. Рембо следовал заповедям своей матери так цепко, что большая часть его жизни выглядит погоней за несчастьями и разочарованиями. В течение последующих пяти лет он будет возвращаться в Шарлевиль или Рош каждую зиму. «…Меня устрашает зима, потому что зима – это время комфорта», – написал он в «Одном лете в аду». Но в доме матери было мало опасности, что он потеряет свою силу в комфорте или увидит все свои желания исполненными.
В этот момент жизнь Рембо делится на два возможных пути с вопросительным знаком на перепутье: пишет ли он что-то по-прежнему или «Одно лето в аду» станет его последним произведением?
Порядок, в котором были написаны «Одно лето в аду» и «Озарения», является предметом одних из самых продолжительных дебатов во французской литературе[506]. Справедливо сказать, что небольшое число исследователей творчества Рембо по-прежнему считают, что Рембо (а не «я» в его стихах) перестал писать в августе 1873 года[507]. После прочтения «Одного лета в аду» словно быстрый прыжок в тишину и, интерпретируя стихи Рембо как точный дневник его тогдашних мыслей, трудно примирить разум с медленным и тернистым спуском, даже если он интереснее в долгосрочной перспективе.
Теперь, однако, кажется очевидным, что многие (возможно, большинство) из стихотворений в прозе, которые в конечном итоге были опубликованы без ведома Рембо в 1886 году под названием «Озарения», были написаны после «Одного лета в аду». Дрожащая рука графологии определила большую часть дат сохранившихся рукописей «Озарений», но большинство ученых сходятся во мнении, что два раздела были переписаны рукой Жермена Нуво, который не жил с Рембо до 1874 года.
Свидетельство самих стихов убедительно, но его невозможно обратить в твердое доказательство. Следы продвинутого английского могут предположить 1874 год. Озабоченность математическими науками и внезапное отсутствие католической терминологии согласуются с новым, постхристианским Рембо[508].
Поскольку первые эксперименты Рембо со стихами в прозе восходят к 1871 или 1872 году, логично предположить, что они были предвестниками «Озарений», как и некоторые отдельные стихи, предшествующие «Одному лету в аду», но процесс, который привел его к отказу от поэзии вообще, длился несколько лет. Рим не был разрушен в один день. Есть и другие тексты, кроме «Одного лета в аду», которые могут быть истолкованы как прощание с поэзией: «Отъезд» и «Распродажа» в «Озарениях» и, если на то пошло, «Пьяный корабль». Рембо выдавал разные виды литературного стиля с тех пор, как начал писать.
Версия о том, что Рембо в какой-то момент принял решение раз и навсегда отказаться от поэзии, вызывает вопросы: Рембо решает отказаться от поэзии, а потом проводит несколько месяцев, совершенствуя текст («Одно лето в аду»), в котором объясняет, что он собирается бросить писать. Он не был известен своими долгими прощаниями.
Даже краткие прощания не были для него обычными. К концу марта 1874 года маленькая группа «Живых» заметила, что один из ее членов отсутствует.
«Рембо был замечен в Париже, но вскоре он снова исчез. Между тем Жермена Нуво тоже нигде не было видно, что было странно, потому что его бумаги все еще находились у него в комнате, а ключ не был отдан».
Ришпен опасался худшего: «Этот поспешный отъезд с оставлением ценных бумаг в гостиничном номере выглядит как похищение. Мы чувствовали, что ничего хорошего из этого не получится. Подверженный непосредственному влиянию Рембо в чужой стране, не в состоянии противостоять этому влиянию, мы думали, что с Нуво все было кончено»[509].
Ознакомительная версия.