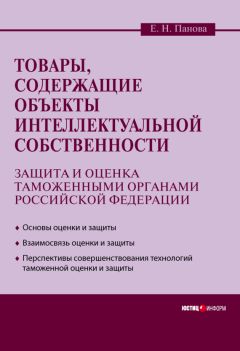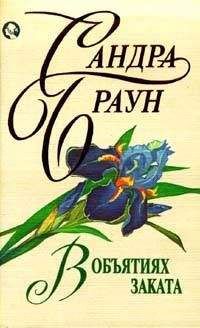Ознакомительная версия.
Но вспоминается три фотографии на столе Виленского. На одной тонкий юный корнет, на второй окрепший и прошедший с боями молодой человек с протянутым к солнцу сыном на руках и любимой женщиной у кромки Океана, миг жизни – миг наивысшего счастья, наверное… На третьей…
– Смотрите… – Виленский подтолкнул её. Нет, это уже не тот подтянутый курсант юнкер – развинченный, без выправки, обыватель в гражданском костюме, но самое неприятное – глаза: светлые, какие-то полупьяные, будто рыбьей плёнкой прикрытые. Виленский усмехнулся своей странной улыбкой с морозной колымской искоркой из-под седых и кустистых как кедровый стланик бровей, которая у него появлялась, когда он рассказывал о самых чудовищных и абсурдных изворотах человеческих судеб.
Нет, ничего не спасёт, когда садишься играть с бесом!
4. Нравственность и война
По моему мнению, война, особенно гражданская, не рождает героев, а их убивает, рождает же она негодяев. Из десяти девять опускаются по нравственной шкале на ступеньку, а то и гораздо ниже, и хорошо, если хоть одному из десяти удастся удержаться на своей. Потому что война – это величайший соблазн беззакония, играючей лёгкости грабежа, насилия и убийства, когда в твоих руках автомат, а напротив безоружные люди вне закона «за которых тебе ничего не будет, что бы ты с ними ни сделал», «противники», будь то незнакомая женщина, ребёнок, старик, пленный… Представляете какое удовольствие, какой соблазн хоть на миг ощутить себя богом тому кого в обычной жизни и не замечали вовсе, на ногу наступали и не извинялись! Мне удалось говорить со свидетелями гражданской войны, хотя во время советской власти и эти люди не могли сказать многого, что видели и что не вписывалось в официозные мифы, по которым все белые были негодяи, нелюди, а красногвардейцы показывались лишь с положительной стороны. Был период, когда я идеализировал белых лишь в силу того, что коммунистическая пропаганда их постоянно очерняла. Но война не делает людей благороднее ни с той, ни с другой стороны: её маятник ненависти сметает нравственность. Есть у меня друг в подмосковном Подольске художник иллюстратор Игорь Бабаянц. Была у него мама Варвара Мартыновна – сухонькая, маленькая армянская старушка с ясными голубыми глазами. Родом она была из Ростова-на-Дону, где был армянский анклав, называемый Новой Нахичеванью, из довольно культурной состоятельной семьи и, несмотря на восьмидесятилетний возраст и артроз суставов пальцев, я не раз слышал, как она играла на пианино.
Я часто бывал в гостях у Игоря и Варвары Мартыновны. «На пироги к Варваре Мартыновне» – это было своеобразным, как сейчас скажут, брендом. Она родилась около 1900 года и видела то, что происходило в Ростове уже вполне сознательным человеком. Город переходил из рук в руки. «Придут белые – вешают, придут красные – вешают… люди висят на фонарных столбах…» – без особой охоты вспоминала она, бывало. «А раз иду по улице – меня конный казак хвать за плечо, наклонился ко мне: «Жидовка?» – «Нет, говорю, армянка, а сама крестик на груди нащупала, вытащила и показываю… – «А, ну иди…»… Не гнушались некоторые белые части и еврейскими погромами в отместку за «еврейское» правительство в Москве (к примеру, в Нежине). Однако, как пишет участник событий С. Мамонтов «Многие офицеры протестовали против погрома и, генерал Барбович его прекратил энергичными мерами. Кого-то пороли и даже кого-то повесили, и всё сразу прекратилось.» Другое воспоминание Варвары Мартыновны. «Сидим мы за столом. Обеденное время. На подоконнике тарелка с горкой блинов. Вдруг дверь открывается, на пороге возникает женщина во френче, галифе и хромовых сапожках. Осматривает нас, комнату, твёрдым шагом направляется к подоконнику, берёт тарелку с блинами и, ни слова не говоря, уносит.»… «А красные, когда наступали, так белые по городу били, мы с детьми в подвале спрятались и тут красные солдаты тоже в наш подвал, несколько человек. Увидели детей и конфетами принялись угощать…» – Вот из таких простых вещей и складывается отношение народа к армии, независимо за какие идеалы она сражается, против какого зла борется… А у Белой армии, чем далее, тем хуже в этом смысле. С каждым месяцем бесконечных боёв она всё более приобретала нрав и повадки не армии освободительной, а армии захватнической, будто по чужой территории идущей. Деградацию её описал в своей книге «1920 год» Шульгин – как вчерашний студент доброволец становился грабителем.
«Я помню, какое сильное впечатление произвело на меня, когда я в первый раз услышал выражение: «От благодарного населения» – Это был хорошенький мальчик, лет семнадцати-восемнадцати. На нём был новенький полушубок. Кто-то спросил его – Петрик, откуда это у вас, он ответил: – Откуда? «От благодарного населения», конечно и все засмеялись. Петрик из очень хорошей семьи. У него изящный тонкокостный рост и красивое, старокультурное, чуть тронутое рукою вырождения, лицо. Он говорит на трёх европейских языках безупречно и потому по-русски выговаривает немножко, как метис, с примесью всевозможных акцентов. В нём была ещё недавно гибко-твёрдая выправка хорошего аристократического воспитания… «Была», потому что теперь её нет, вернее, её как будто подменили. Приятная ловкость мальчика, несмотря на свою молодость, знает, как себя держать, перековалась в какие-то… вызывающие, наглые манеры. Чуть намечающиеся черты вырождения страшно усилились. В них сквозит что-то хорошо знакомое… Что это такое? Ах, да, – он напоминает французский кабачок… Это «апаш» – Апашизмом тронуты… этот обострившийся взгляд, обнаглевшая улыбка… А говор. Этот метисный акцент в соединении с отборными русскими «в бога, в мать, в веру и Христа», – дают диковинный меланж сиятельного хулигана»… Когда он сказал «От благодарного населения», все рассмеялись. Как это «все»? Такие же как он. Метисно-изящные люди русско-европейского изделия. «Вольноперы», как Патрик и постарше – гвардейские офицеры, молоденькие дамы «смольного» воспитания… Ах, они не понимают, какая горькая ирония в этих словах. Они – «смолянки». Но почему? Потому ли, что кончили «Смольный», под руководством княгини НН, или потому, что Ленин-Ульянов, захватив «Смольный», незаметно для них самих привил им «ново-смольные» взгляды – Грабь награбленное! Разве не это звучит в словах этого большевизированного Рюриковича, когда он небрежно нагло роняет: – От благодарного населения. Они смеются. Чему? Тому ли, что быть может, последний отпрыск тысячелетнего русского рода прежде, чем бестрепетно умереть стал вором? Тому ли, что, вытащив из мужицкой скрыни под рыдания Мусек и Гапок этот полушубок, он доказал наупившемуся Грицьку, что паны только потому не крали, что были богаты, а, как обеднели, то сразу узнали дорогу к сундукам, как настоящие «злодни», – этому смеются? «Смешной» ли моде грабить мужиков, которые «нас грабили», – смеются? Нет, хуже… Они смеются над тем, что это население, ради которого семьи, давшие в своё время Пушкиных, Толстых и Столыпиных укладывают под пулемётами своих сыновей и дочерей в сыпно-тифозных палатах, что это население «благодарно» им… «Благодарно» – т.е. ненавидит..! Вот над чем смеются. Смеются над горьким крушением своего «Белого» дела, над своим собственным падением, над собственной «отвратностью», смеются – ужасным апашеским смехом, смехом «бывших» принцев, «заделавшмихся» разбойниками. Да, я многое тогда понял. Я понял, что не только не стыдно и не зазорно грабить, а, наоборот, модно, шикарно. У нас ненавидели гвардию и всегда тайком ей подражали. Может быть, за это и ненавидели… И потому, когда я увидел, что и «голубая кровь» пошла по этой дорожке, я понял, что бедствие всеобщее. «Белое дело» погибло. Начатое «почти святыми», оно попало в руки «почти бандитов».
Днём, впрочем, на глазах у командования, строго запрещавшего такое поведение, заниматься этим белые стеснялись Ночью же многие объединялись в группы и мародёрничали, а тех, кто этого чурался, дразнили «чистоплюями». Но следить особо было некому, дисциплина слабая, да и каждый боец истощающейся Белой армии был на счету: полки то и дело превращались в роты, роты во взводы, усталость, равнодушие, озлобленность нарастали, возбуждая чувство права «брать» всё, что глаз цапнет, у тех, кто не воюет, у презренных штатских, кто не рискует жизнью, обоз разрастался из-за раненных, которых белые не бросали, делая части менее маневренными, линии фронта почти не существовало и двигались ударами, рейдами, не имея связи с соседними колоннами… После первых же боёв у белых стало образовываться огромное количество пленных, зачастую превышающее количество белогвардейских строевых частей, и их поначалу просто отпускали по домам (кроме комиссаров). Но когда одни и те же лица стали появляться и во второй и в третий разы, начались «расправы»: расстреливали всё больше и больше, маховик войны, запущенный большевизией раскачивался всё сильней, взаимная ненависть усиливалась. Мой дед Сергей по маме украинке был мобилизован на первую мировую. До сих пор осталось чудом через столетие дошедшее до меня фото на паспорту, сделанная, видимо, перед отправкой на фронт. Три русских мужичка – два с головами бритыми и уже коротко отросшим волосом стоят на фоне какой-то античной вазы с занавеской фотосалона справа и слева сидящего лихого парня в фуражке и с торчащим из-под козырька русым чубом (видимо, ефрейтор). Форма простая солдатская – тряпичные погоны, не совсем ладно сидящая на вчерашних крестьянах солдатская форма без наград, сапоги… Мой дед слева – высокий высоколобый и с какой-то смешинкой в глазах… Где и как воевал три года я не знаю – вся та война была объявлена «империалистической» и как бы не существовавшей, чтобы не заслонять «Великий Октябрь». Очевидно и из этих соображений госпитальное огромное кладбище на Соколе в Москве, где хоронили скончавшихся от ран, было выровнено и превращено в парк для гулянья – с тиром, качелями… Я жил и работал в этом районе, палил в тире, а ничего не знал о костях подо мною, впрочем, как и другие. Сейчас там кое-что попытались восстановить – широкие пространства с редкими памятниками новоделами – ну, хоть что-то. После революции, по словам мамы, дед Сергей воевал в Красной Армии (очевидно по мобилизации) и ничего об этом периоде его жизни мама не рассказывала, кроме того, что умер почти сразу как вернулся, году в 1921, очевидно от рака. А брат его родной, кстати, воевал у белых не то прапорщиком или даже поручиком… Судьба его была непонятной и загадочной. Вдруг появился после Отечественной войны в родной деревне и попросился к сыну жить. «Ну живи» – вздохнул сын, давно его уже забывший. Был брат моего деда к тому времени уже не молодой, но крепкий, сильный ещё мужик. О судьбе своей ничего не рассказывал, а сын и не расспрашивал о двадцати годах отсутствия… да и по тем временам – слово лишнее отпустишь, а на следующий день нет ни тебя, ни и близких! Было у меня в 1968году ещё одно знакомство. Я перешёл в 10 класс и мы с отцом отдыхали на Чёрном Море на турбазе близ Анапы. Рядом с летним домиком, где мы с отцом жили, был домик, в котором жил рослый вальяжный пожилой еврей со своей любовницей. Он был каким-то крупным проверяющим начальником на вагоностроительном заводе Луганска, от которого и была построена турбаза, и директором которого был мой дядя. Фамилия его была Каплун и судьба его была необычной: и акробатом-тяжеловесом в одесском цирке работал, и был начальником в системе Дальневосточного пароходства, где его чуть было не посадили из-за статьи в стенгазете, но самое для меня интересное было в том, что он успел послужить в красной коннице, идущей через Украину. С Каплуном, несмотря на разницу в возрасте у нас установилась какая-то взаимная симпатия, и мы иногда вдвоём обедали в столовой турбазы, где кормили из рук вон плохо. Он научил меня смешивать жиденький суп с перловкой, которую нам давали на второе, рассказав, что они делали так во время гражданской войны и называли это «шрапнелью». Я пытался расспрашивать о гражданской войне, но единственное, о чём он рассказал, что местное украинское население относилось к ним плохо. «И чего вы сюды пришлы?» – ворчала хозяйка, подавая бойцам к столу. Это меня удивило: «Ведь мы их освобождали!». Каплун промолчал: он уже знал и понимал гораздо больше меня.
Ознакомительная версия.