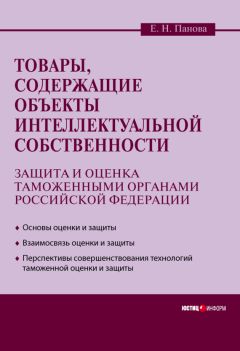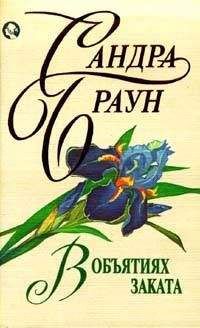Ознакомительная версия.
Днём, впрочем, на глазах у командования, строго запрещавшего такое поведение, заниматься этим белые стеснялись Ночью же многие объединялись в группы и мародёрничали, а тех, кто этого чурался, дразнили «чистоплюями». Но следить особо было некому, дисциплина слабая, да и каждый боец истощающейся Белой армии был на счету: полки то и дело превращались в роты, роты во взводы, усталость, равнодушие, озлобленность нарастали, возбуждая чувство права «брать» всё, что глаз цапнет, у тех, кто не воюет, у презренных штатских, кто не рискует жизнью, обоз разрастался из-за раненных, которых белые не бросали, делая части менее маневренными, линии фронта почти не существовало и двигались ударами, рейдами, не имея связи с соседними колоннами… После первых же боёв у белых стало образовываться огромное количество пленных, зачастую превышающее количество белогвардейских строевых частей, и их поначалу просто отпускали по домам (кроме комиссаров). Но когда одни и те же лица стали появляться и во второй и в третий разы, начались «расправы»: расстреливали всё больше и больше, маховик войны, запущенный большевизией раскачивался всё сильней, взаимная ненависть усиливалась. Мой дед Сергей по маме украинке был мобилизован на первую мировую. До сих пор осталось чудом через столетие дошедшее до меня фото на паспорту, сделанная, видимо, перед отправкой на фронт. Три русских мужичка – два с головами бритыми и уже коротко отросшим волосом стоят на фоне какой-то античной вазы с занавеской фотосалона справа и слева сидящего лихого парня в фуражке и с торчащим из-под козырька русым чубом (видимо, ефрейтор). Форма простая солдатская – тряпичные погоны, не совсем ладно сидящая на вчерашних крестьянах солдатская форма без наград, сапоги… Мой дед слева – высокий высоколобый и с какой-то смешинкой в глазах… Где и как воевал три года я не знаю – вся та война была объявлена «империалистической» и как бы не существовавшей, чтобы не заслонять «Великий Октябрь». Очевидно и из этих соображений госпитальное огромное кладбище на Соколе в Москве, где хоронили скончавшихся от ран, было выровнено и превращено в парк для гулянья – с тиром, качелями… Я жил и работал в этом районе, палил в тире, а ничего не знал о костях подо мною, впрочем, как и другие. Сейчас там кое-что попытались восстановить – широкие пространства с редкими памятниками новоделами – ну, хоть что-то. После революции, по словам мамы, дед Сергей воевал в Красной Армии (очевидно по мобилизации) и ничего об этом периоде его жизни мама не рассказывала, кроме того, что умер почти сразу как вернулся, году в 1921, очевидно от рака. А брат его родной, кстати, воевал у белых не то прапорщиком или даже поручиком… Судьба его была непонятной и загадочной. Вдруг появился после Отечественной войны в родной деревне и попросился к сыну жить. «Ну живи» – вздохнул сын, давно его уже забывший. Был брат моего деда к тому времени уже не молодой, но крепкий, сильный ещё мужик. О судьбе своей ничего не рассказывал, а сын и не расспрашивал о двадцати годах отсутствия… да и по тем временам – слово лишнее отпустишь, а на следующий день нет ни тебя, ни и близких! Было у меня в 1968году ещё одно знакомство. Я перешёл в 10 класс и мы с отцом отдыхали на Чёрном Море на турбазе близ Анапы. Рядом с летним домиком, где мы с отцом жили, был домик, в котором жил рослый вальяжный пожилой еврей со своей любовницей. Он был каким-то крупным проверяющим начальником на вагоностроительном заводе Луганска, от которого и была построена турбаза, и директором которого был мой дядя. Фамилия его была Каплун и судьба его была необычной: и акробатом-тяжеловесом в одесском цирке работал, и был начальником в системе Дальневосточного пароходства, где его чуть было не посадили из-за статьи в стенгазете, но самое для меня интересное было в том, что он успел послужить в красной коннице, идущей через Украину. С Каплуном, несмотря на разницу в возрасте у нас установилась какая-то взаимная симпатия, и мы иногда вдвоём обедали в столовой турбазы, где кормили из рук вон плохо. Он научил меня смешивать жиденький суп с перловкой, которую нам давали на второе, рассказав, что они делали так во время гражданской войны и называли это «шрапнелью». Я пытался расспрашивать о гражданской войне, но единственное, о чём он рассказал, что местное украинское население относилось к ним плохо. «И чего вы сюды пришлы?» – ворчала хозяйка, подавая бойцам к столу. Это меня удивило: «Ведь мы их освобождали!». Каплун промолчал: он уже знал и понимал гораздо больше меня.
О жестокости красных я впервые прочитал в Конармии Бабеля: как один будёновец ставил в ряд пять пленных поляков и одной пулей в висок ближайшему всех убивал. Такое вот развлечение… Белые дрались умением, а красные брали массой и непрерывностью атак, не давая противнику передохнуть. Какой там Суворов с его принципом бить не числом, а уменьем! Белый генерал Туркул не раз писал по этому поводу: красные валят и валят, многочисленные, «как икра»… Это, кстати, как я уже упоминал, так и осталось недоброй традицией советской армии: воевать числом, а не умением: так было в гражданскую, так было в финскую, так было (свидетель – мой отец) и в Великую Отечественную. «Единица – вздор, единица – ноль.» (Маяковский). Несмотря ни на что время показало историческую правоту борьбы Белой армии, но слишком поздно. За три поколения коммунистам в России удалось-таки вывести новый народ – не русский, но советско-русский, до сих пор вполне терпимо относящийся к памятникам Ленина по всей России всё ещё торчащими от Океана до Океана и позорящим Россию перед лицом Господа, народом, некоторые представители которого вновь вытаскивают на свет божий портреты собственного палача Сталина. Этот гнойник в общественном сознании России ещё предстоит окончательно исторгнуть, чтобы выздороветь. Но возвращусь к теме нравственности и войны. И здесь мне кажется более всего уместным закончить тему словами участника почти всех походов белых артиллериста С. Мамонтова. (книга «Походы и кони»). «Когда говорят о нарушении правил войны, мне смешно слушать. Война – самая аморальная вещь, гражданская наипаче. Правило для аморализма? Можно калечить и убивать здоровых, а нельзя прикончить раненного. Где логика? Рыцарские чувства на войне не применимы. Это только пропаганда для дураков.. Преступление и убийство становятся доблестью. Врага берут внезапно, ночью, с тыла, из засады, превосходящим числом. Говорят неправду. Что тут рыцарского?… Мне кажется, что лучше сказать жестокую правду, чем повторять розовую ложь.»
5. Страшная сказка в Раю. Коллективизация
Мама загорала на волшебной коктебельской гальке, закрыв глаза. Я только что выскочив из воды, мокрый и приятно озябший лёг рядом, чувствуя светлый летучий восторг солнечной быстро согревающей щекотки испаряющихся на коже капель. Мама любила лежать так, чтобы набегающие волны касались её стоп и пена доставала до голеней. Справа вторгался в море громадный Кара-Даг с его премудрыми изломами сказочными чудесами, бухтами, за ним в очередь, скалистый пик Сюрю-Кая, круглая зелёная от курчавого леса гора с серый прямоугольной проплешиной на склоне – три горы совершенно разного характера… впереди сияло синее море – бескрайнее как радостное обещание счастья. – А хочешь я тебе расскажу сказку? – неожиданно спросила мама, не открывая глаз. – Я, чтобы её не обидеть нехотя согласился – мне было уже 11 лет и сказок я уже почти не читал – всё больше приключения, фантастику… – Жила была девочка, – начала мама, – ей было столько же лет, сколько тебе. Родители её умерли, дома не было своего и она ночевала в сарае с коробками… И каждую ночь в сарае начинало шуршать, едва она собиралась заснуть – это были крысы, собиралась целая стая и они приближались наступали на неё. Девочке было страшно, и она отгоняла их от себя… Мама неожиданно замолкла. Шумело море, слышался весёлый визг детей. На продолжении сказки я не настаивал, сказка казалась какой-то неинтересной, начало и продолжение её тонули в какой-то серой мгле… А возможно мама просто не успела досочинить сказку, потому и не стала продолжать. Но что-то, видимо, было в её обертоне такое из-за чего эта «сказка» не забылась, а упала на дно памяти навсегда. И смутная догадка-подозрение оставалась: «Это была ты!»
– « А потом у неё всё стало хорошо!» – неожиданно закончила мама, обернувшись ко мне и открыв свои зелёные лучистые глаза и улыбаясь. Тем летом отец и мама поссорились в аккурат перед её отпуском, и мы поехали на юг без него. Здесь я впервые через много лет увидел снова море, но непохожее на голубовато-стальную холодную Балтику моего раннего детства, а ярко синее, а мама после короткого боя с директором пансионата Планерское выбила нам номер на первом этаже на двадцать дней.
Ознакомительная версия.