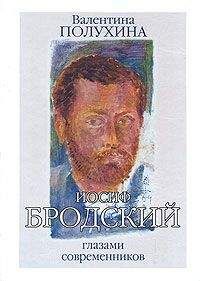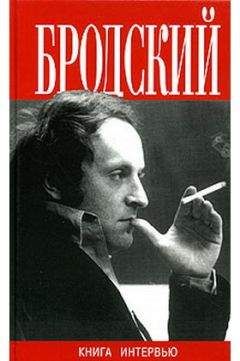замагниченный бешенством передвижения по
одновременно: телу, почти обращенному в газ,
одновременно: газу, почувствовавшему упор.
Это сила, которая в нас созревает и вне,
как медведь в алкогольном мозгу и — опять же — в углу
искривившемся комнаты, где окаянная снедь.
Созревает медведь и внезапно выходит к столу.
Ты — прогноз этой силы, что выпросталась наобум,
ты ловил ее фиброй своей и скелетом клац-клац,
ты не видел ее, потому что тащил на горбу
и волокна считал в анатомии собственных мышц.
В необъятных горах с этим миром, летящим на нет,
расходясь с этим миром, его проницая в
расходясь, например, словно радиоволны и нефть,
проницая друг друга, касаясь едва и почти...
Ты узнал эту силу: последовал острый щелчок, —
это полное разъединение и тишина,
ты был тотчас рассеян и заново собран в пучок,
и — еще раз щелчок! — и была тебе возвращена
пара старых ботинок и в воздухе тысяча дыр
и по стенке сползающий вниз,
приходящий в себя подоконник и вход в коридор,
тьмою пробранный вглубь, словно падающий кипарис.
Виктор Альфредович Куллэ родился 30 апреля 1962 года в г. Кирово-Чепецке (Урал). Готовился стать физиком, но, отучившись четыре года, бросил Ленинградский институт точной механики и оптики и целиком посвятил себя литературной работе. Окончил в 1991 году Литературный институт, в 1996 году защитил первую в России диссертацию о творчестве Бродского, посвященную его поэтической эволюции. Статьи Куллэ о поэзии Бродского печатались в "Роднике", "Новом журнале", "Гранях", "Slavica Helsingiensia", "Russian Literature", "Литературном обозрении"[352]. Его стихи опубликованы в отечественной и эмигрантской периодике, переведены на ряд европейских языков. По-английски они напечатаны в "Soviet Poetry Since Glasnost" (San Francisco), "The Hungry Russian Winter" (Moscow), "Essays in Poetics" (Keele). Виктор Куллэ является составителем и издателем альманаха "Латинский квартал" (Москва, 1991), по его инициативе и под его редакцией вышел в свет сборник современной русской поэзии с параллельными английскими текстами "The Hungry Russian Winter". Основополагающей для него, как исследователя и издателя современной поэзии, является идея "вертикального поколения", представители которого, при всей возрастной и стилистической несовместимости, связаны "преемственностью нравственных установок и языковой органики"[353]. В сфере интересов Куллэ-переводчика поэзия Томаса Венцловы, Дерека Уолкотта, Роя Фишера, Шеймуса Хини и поэтов-сверстников. Виктор Куллэ стал редактором и составителем сборника Бродского "Бог сохраняет все" (Москва, 1992), в котором впервые предпринята попытка собрать вместе основной корпус работ Бродского-переводчика. Поэтическую манеру Куллэ отличает версификационное мастерство и классическая элегантность тропов. Его стихи, существующие в пост-Бродском лингвистическом пространстве, магнетизируются метрическим потоком, и в то же время отдельные строфы могут существовать самостоятельно — наподобие японской зарисовки пейзажа.
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, В КОТОРОЙ ВСЕ МЫ СУЩЕСТВУЕМ
Интервью с Виктором Куллэ
24 июля 1992. Кил
С какого возраста вы начали писать стихи?
Я не могу ответить на это точно. У меня не было такого момента в жизни, чтобы я сформулировал, что вот да, это — стихи. Я начинал в подпольной, что ли, культуре; подпольной не в смысле какого-то диссидентского или эстетического подполья, а был такой специфически-питерский "андеграунд" конца 70-х, культура хиппи в отечественном, естественно, варианте. И я писал черт-те что, тексты для рок-групп, какие-то забавные вещицы, хохмы, песенки. То есть когда это стало собственно стихами, а не какими-то домашними опусами, я отследить не могу.
Когда появилось у вас какое-то представление об идеальном стихотворении, и как оно менялось?
Я думаю, что у меня до сих пор нет представления об идеальном стихотворении. Просто были какие-то векторы развития, идеальные поэты, может быть, или, вернее, идеальные образы поэтов, и они, естественно, менялись, как у всякого советского, без кавычек, человека. Потому что я ведь все-таки сначала узнал Маяковского, не знаю, Евтушенко с Вознесенским, а потом уже я узнал Мандельштама. То есть у меня не было нормального какого-то процесса, и я думаю, что это характерно, это было почти у всех так, за исключением счастливых детей, попавших в счастливые условия, которым культура досталась по наследству, л почти не знал своего дядю, замечательного поэта, ныне покойного, Сергея Кулле[354]. Вот у кого можно было бы, но поздно об этом, поучиться нормальному вкусу. А так я как-то медленно и мучительно, как и большинство сверстников, тыкался носом, пробовал что-то, отвергал...
Я сознательно спрашивала вас не об идеальном поэте, а об идеальном стихотворении, имея в виду ту ситуацию, что вот вы читаете чье-то стихотворение и думаете: "Ах, как бы я хотел написать именно это!" Есть ли у вас такие стихотворения, и появляется ли время от времени такое желание? Определите с сегодняшней точки зрения, что такое для вас идеальное стихотворение.
Умничая, можно сказать, что все мы сейчас находимся в ситуации борхесовского Пьера Менара, автора "Дон-Кихота". Ну а если серьезно, то таких стихотворений на самом деле не так уж много, и, может быть, здесь забавно то, что список стихотворений, которые я хотел бы написать сам, и список каких-то безусловных, главнейших и насущнейших для меня поэтических шедевров не совпадают. То есть пересекаются, конечно, но не совпадают, здесь нет закономерности. Может быть, это следствие моего дурного вкуса, может быть, это какая-то такая экзистенциальная загадка.
Наверное... ну, думаю, что здесь я не одинок, я хотел бы написать "Имяреку, тебе" [Ч:31/II:332] или "Ниоткуда с любовью" [Ч:77/II:397]. А "Письма римскому другу" [Ч:11-14/II:284-86], скажем, не входят в этот круг, хотя это, конечно же, великие стихи, и в условный "список шедевров" они для меня входят под каким-то очень весомым номером. И в то же время в этот список стихотворений, которые я бы хотел написать, могут попасть, например, стихи Вознесенского, вот эта песня "Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь", хотя она, безусловно, не войдет в список шедевров. Или, например, некоторые песни таких замечательных и, к сожалению, недостаточно оцененных бардов, как Юрий Лорес или Геннадий Жуков. Конечно же, многие, чересчур даже многие стихи Гандлевского... То есть эти поля пересекаются, но пересекаются скорее случайно.
По каким критериям вы определяете указанные стихи Бродского как "шедевры"?
Думаю, таких критериев вообще не существует. То есть, конечно же, существует некий набор параметров, но это как в математике: "необходимо", но не "достаточно". При желании можно пропрепарировать посредством алгебры гармонию, но в гармонии ведь важно не совершенство пропорций и даже не "величие замысла", а то, почему эти пропорции соответствуют именно этому замыслу, и почему именно этот Мастер взялся воплощать именно этот замысел именно в этих пропорциях; даже более того — насколько избранные пропорции и замысел создавали самого Мастера. То есть своеволие этих троих — замысла, пропорций, Мастера — их взаимонеизбежность, обреченность и, возможно, то, насколько они соотносятся с неким глобальным саморазвитием миропорядка. Я просто знаю, что для меня эти стихи — шедевры. В этом смысле любой литературоведческий анализ не отвечает на вопрос "почему?" — он, скорее, может служить некоей суммой знаний о человеческом в человеке, либо о человеческом в себе самом. Это, кстати, мысль Бродского — об антропологическом предназначении поэзии.
А не могли бы вы назвать свои стихотворения, которыми довольны на сегодняшний день?
Ну, для меня самое основное то, что я сейчас делаю, это две мои незаконченные поэмы. Это "Перипл Ханнона"[355], который я начал в 85-м году, до сих пор продолжаю и боюсь, что уже не закончу, наверное, потому что слишком многое изменилось, я уже отошел от какого-то начального ощущения этой вещи. И, конечно же, это последняя поэма, вы знаете, я ее читал на вечере[356], которая сейчас без названия. Ну и вообще последние стихи, они кажутся, может быть, более удачными, скорее всего потому, что они более близки ко мне, я еще от них, как бы сказать, не отслоился, что ли. Хотя бывает и так, что приходишь в ужас сразу по написании.
В этом смысле вы присоединяетесь к общепринятому поэтическому клише, что последние стихи более дороги?
Да, конечно. Но дело в том, что стихотворение, я уверен, имеет некое пост-существование, я бы сказал "посмертие". На самом деле жизнь стихотворения — жизнь до момента его записания на бумагу. Если провести аналогию с человеческим существованием, то стихотворение живет в поэте, и момент его фиксации на бумаге это, собственно, похороны. И я думаю, что после этого существуют некие условные "сорок дней , когда оно еще посещает поэта. Это довольно любопытное состояние.