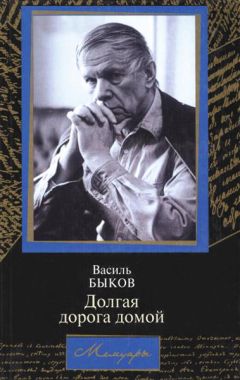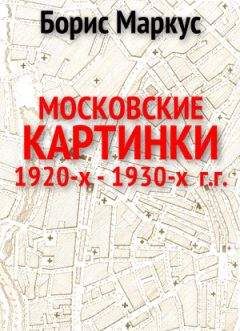В покое, однако, не оставили, возня вокруг сценария продолжалась. Потребовалась моя поддержка как автора повести, и я приезжал в Минск, где Лариса вела переговоры уже с «Беларусьфильмом». Из этих переговоров ничего не вышло: белорусские киновласти не осмеливались вновь связываться с прозой Быкова. Были уже научены. Лариса снова перекинулась на Москву, стала ходатайствовать перед центральными властями. Просила меня приехать.
Я приехал в Москву, и мы с Ларисой договорились встретиться в Доме кино, вместе там пообедать. Народа было немного, разговору никто не мешал. Лариса сказала, что дело дрянь, снимать не дают. Кто не дает? А все! Надо пробиваться к самому Суслову. Я хотел было сказать: ну и пробивайтесь, но она меня опередила: «Надо вдвоем, сейчас я позвоню помощнику Суслова, и поедем!» Я не знал, что ей на это сказать. Дело в том, что еще лет шесть назад я слышал, что в ЦК принято постановление о моем творчестве, подписанное именно Сусловым. А теперь мне к нему ехать. Я в самые мрачные для меня времена никого ни о чем не просил. Пока Лариса ходила звонить, я многое передумал и охвачен был[302] одним желанием, чтобы все они, там, в сусловском ЦК, обратились в прах, даже вместе с моим «Сотниковым». Я не хотел ни фильма, ни существования самой повести.
Должно быть, Бог услышал мои молитвы. Вернулась Лариса, раздосадованная, разочарованная: «Суслов болен». Слава тебе, Господи, подумал я. С огромным облегчением я уехал домой.
Некоторое время спустя получил от Ларисы прощальное письмо, в котором она извинялась за причиненное мне беспокойство и сообщала, что вынуждена отказаться от замысла, которым жила почти два года. Ну, что ж — отказывается, так отказывается, меня это даже не огорчило. Меньше забот. В то же время мне было жаль Шепитько: столько времени отдала моей повести, с такой доброжелательностью!.. И всё напрасно.
Но я ошибался, Лариса всё же не успокоилась, что-то делала. Прошло еще с полгода и вдруг телеграмма: «Запускаем фильм, создаем группу. Музыку пишет Альфред Шнитке». Что-то завертелось в желанном направлении…
Но я слабо верил в определенность этого нашего самого неопределенного из искусств, ждал отбоя. Отбоя не было. Изредка мне сообщали: снимают за Москвой, в старинном русском городке. Другой натуры не нашли. Западнее Москвы или в Беларуси вся старина загажена силосными башнями да силикатными коробками. Снимали тяжело, в центральной России стояли лютые морозы, кто-то из съемочной группы простудился и умер. На две главные роли Лариса пригласила молодых, малоизвестных актеров — Бориса Плотникова и Владимира Гостюхина. Последний потом сделал определенную карьеру в Беларуси, поддержал режим, за что был им облагодетельствован. А тогда действительно неплохо сыграл роль Рыбака, — должно быть, проявилась родственность душ.
Когда фильм был снят, начались обычные для советского кинематографа треволнения с его сдачей. Бдительные надзиратели из разных органов усмотрели в нем чрезмерность религиозных, христианских мотивов. Этому содействовала в какой-то степени музыка А. Шнитке. Безусловно, это была[303] замечательная музыка, но ведь и критерии ее понимания тогда были особенные. Власти вообще не признавали Шнитке. То, что через двадцать лет стало несомненной ценностью, тогда воспринималось, как изъян.
Лариса говорила, что и впрямь стремилась к возвышенной религиозности и даже хотела назвать фильм — «Вознесение». В качестве компромисса дала название «Восхождение», близкое по смыслу. Но всё же то, да не то.
Через несколько лет на Берлинском кинофестивале фильму «Восхождение» был присужден главный приз — «Золотой медведь». А в скором времени замечательный режиссер Лариса Шепитько погибла в автомобильной катастрофе. Снимала фильм по повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой»; утром усталая возвращалась в Москву, водитель уснул за рулем, машина столкнулась со встречной, и все погибли. Остался вдовцом прекрасный кинорежиссер Элем Климов. (Впоследствии он снял правдивый фильм «Иди и смотри!» — о белорусских партизанах по сценарию Алеся Адамовича.)
«Восхождение» — самая лучшая из всех десяти экранизаций моих повестей.
Летом 1983 года мне довелось съездить в Кёльн на писательский конгресс. Советская делегация была небольшая: Сергей Михалков (руководитель), Евтушенко, Распутин, Межелайтис, я и еще кто-то. Чудесный город над Рейном, который, как многие другие западногерманские города, поднялся в послевоенные десятилетия из пепла военной разрухи, очаровывал красотой, благоустроенностью и, конечно же, знаменитым Кёльнским собором, неподалеку от которого находился отель, где мы поселились.
Конгресс проводился в зале городской библиотеки. Выступления были довольно жаркие: в мире не забылось и еще не остыло возмущение удушением «Пражской весны» советскими танками. Советские писатели слабо оправдывались, привычно ссылаясь на «подкопы англо-американского империализма». Но самым ярким выступлением было выступление Генриха Бёлля, слушать которого на площади перед[304] библиотекой собралась огромная толпа. Этот замечательный немецкий писатель, борец с фашизмом и большевистским тоталитаризмом, противник ракетно-ядерного безумия, закончил свою речь цитатой из Шекспира: «Чума на оба ваших дома!», и все слушатели в зале и на площади устроили ему овацию.
К тому времени я уже знал из воспоминаний Бёлля и его автобиографии, что мы с ним по разные стороны фронта воевали в Молдавии и под Яссами, похоже, участвовали в одних боях. Там я, контуженный, вернулся в свой батальон, а Бёлль, симулируя болезнь, добился отправки в тыл — так рознились наши позиции в той войне. В перерыве я подошел к Бёллю и сказал ему о нашей военной общности. Бёлль улыбнулся и сказал, что если не теперь, то позже мы поймем, что нас обоих использовали в грозном деле смертоубийства для целей одинаково преступных сил. Очевидно, он был прав, хотя тогда я не мог полностью с ним согласиться. Всё же я в значительной мере оставался совком, в то время, как нобелевский лауреат Бёлль парил высоко и смотрел на мир Божий иначе — широко и независимо. Во всяком случае, я всегда с огромным интересом читал то немногое из его публицистики, что появлялось на русском языке. Что касается его влияния на европейское сознание, то оно было длительным и неоспоримым. Лишь после его смерти в 1985 году значимость личности Бёлля в Европе потускнела. Но его место в Германии заняли его молодые единомышленники, такие, как, к примеру, Гюнтер Грасс, которые продолжили дело великого немецкого гуманиста.
Наступил мой юбилей — подкатил незаметно. Еще недавно был молодой, «начинающий», а уже 50, полстолетия оттопал. Вся молодость позади. Старик…
Очевидно, так или примерно так думают многие в свои 50. Но меня тогда больше волновало другое. В СП сказали, что «есть мнение» юбилей Быкова провести на двух уровнях — республиканском и областном.[305] Это меня совсем уничтожило, даже для одного уровня у меня не было ни сил, ни решимости, а тут сразу два. Но ведь — друзья! Друзья жаждали отметить.
Не очень помню, как это происходило в Минске. Кажется, в небольшом зальчике «Мутного ока» собралось с полсотни писательских активистов, от ЦК был Кузьмин. О творчестве юбиляра сделал докладик критик Бугаев. Затем путано (и пьяновато) выступил юбиляр — благодарил всех, и друзей, и врагов. По случаю юбилея хотелось быть великодушным. Кузьмин сказал, что вот-вот должен появиться указ о награждении, но в Москве какая-то задержка. Не стали ждать запаздывающий указ и, как только окончились выступления, пошли в ресторан, где и обмыли гипотетическую награду.
В Гродно было хуже. Областное начальство, словно в качестве извинения за причиненные Быкову прежние обиды, решило провести торжество в огромном зале дворца текстильщиков. Пришли представители трудовых коллективов, интеллигенции и немногочисленные друзья юбиляра. Передние скамьи заняло партийное руководство области во главе с новым первым секретарем обкома Клецковым. На подиум посреди сцены поставили, привезенное из театрального реквизита, старомодное, похожее на королевский трон кресло с высокой спинкой и позолоченными финтифлюшками. Это было самое мучительное, что я вынужден был терпеть несколько часов. Я сидел, как на сковородке, с трудом воспринимая льстивые выступления и приветствия и в мыслях проклиная себя за то, что дожил до такого срама. Тогда я уже твердо знал, что принадлежу к тем людям, которым терпеть ругань гораздо легче, чем похвалу. К похвалам я не привык и чувствовал себя ужасно. Особенно стыдно было перед десятками знакомых, которые бог знает что обо мне тогда думали.
Еще через некоторое время на моей новой квартире по улице Свердлова раздался телефонный звонок. Вежливый женский голос сказал, что с товарищем Быковым хочет поговорить начальник областного управления Комитета государственной безопасности. У меня ёкнуло сердце — опять! Оказалось — нет. Поговорить со мной хочет новый начальник, который всего лишь месяц назад приехал в Гродно, много[306] обо мне слышал (еще бы!) и желает познакомиться лично и познакомить со мной коллектив чекистов. Не мог бы товарищ Быков в субботу прийти в комитет и рассказать гродненским чекистам о том, что он написал, над чем работает теперь?