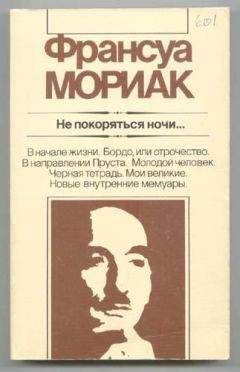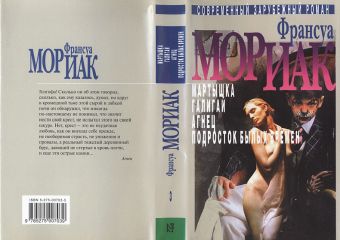Осторожно! Этак я встану на путь, пойти по которому значило бы открыть в себе ребенка, чуждого мне еще более, нежели тот, чьи черты я попытался недавно воссоздать.
Значит ли это, что своими воспоминаниями автор вводит нас в заблуждение относительно себя самого? Ничуть не бывало: главное — уметь их читать. Именно то сокровенное, что просвечивает в них вопреки воле писателя и говорит нам о нем больше всего. Истинный облик Руссо, Шатобриана, Жида постепенно вырисовывается в филиграни их исповедей и мемуаров. То, что ими замалчивается (пусть даже хорошее), то, что ими выставляется напоказ (пусть даже дурное), помогает нам разглядеть черты, которые они порой затушевывали с большой тщательностью.
Было бы, однако, крайне неверно думать, что автор намеренно, желая ввести нас в обман, приукрашивает свои воспоминания. На самом деле он подчиняется необходимости: надо, чтобы то зыбкое, бывшее в прошлом его жизнью, замерло, застыло под его пером. То же — с чувством и страстью, некогда им владевшими: в реальной жизни они перемешались с массой других ощущений, сплелись в сложный узел; ему же надо отделить их друг от друга, разграничить, придать им форму, не принимая в расчет ни их продолжительности, ни их неуловимой эволюции. И вот он невольно лепит из материала своего насыщенного прошлого эти образы, столь же произвольные, как созвездия, которыми мы заселили ночь.
Не следует также упрекать автора за то, что для него мемуары являются чаще всего оправданием собственной жизни. Сами того не желая, мы всегда кончаем тем, что начинаем оправдываться; мы находимся под судом всегда, когда говорим о себе, даже если не знаем, перед кем держим защитительную речь. Мемуары, исповеди, воспоминания свидетельствуют о том, что большинство людей, какую бы веру они ни исповедовали, томимы желанием отчитаться за прожитое. Любой автор мемуаров, каждый по-своему, пусть даже обвиняя себя, подготавливает себе защиту... Перед потомками? Возможно; но не стремится ли он подсознательно представить душу свою такою, какою желал бы явить ее очам Того, кто дал ее и может потребовать обратно в любой миг?
Это затаенное желание оправдать себя является, на мой взгляд, общим признаком самых разных исповедей. Отсюда, вероятно, необычный характер творчества такого писателя, как Пруст (когда мемуарам только приданы некоторые черты романа): мало того, что его не занимает нравственный облик персонажей, — он вдобавок не видит в их поведении ничего, что могло бы вызвать иные чувства, чем простой интерес или любопытство.
Тут я имею в виду не столько отдельные описываемые им пороки, сколько те гнусные поступки, о которых он рассказывает как о чем-то обыденном: например, когда герой (от лица которого ведется повествование), желая справиться об образе жизни своей умершей любовницы, дает деньги служителю гостиницы и поручает ему собрать нужные сведения. Но в том-то и дело, что если Пруст и производит впечатление человека, утратившего свой оборонительно-оправдательный инстинкт, то, вероятно, лишь в той степени, в какой его мемуарам приданы черты романа, и вполне достаточной для того, чтобы он перестал чувствовать себя предметом обсуждения. А главное — он распыляет личность человека на множество «я», которые, сменяя друг друга, умирают, и ни одно из них не может наследовать преступления того, на место которого приходит.
В итоге святой Августин остается, возможно, единственным автором «Исповеди» *, осознавшим инстинкт, которому подчиняется человек, рассказывающий о своей жизни. Возможно, тот, кто убежден, что пишет под неусыпным оком троицы, остерегается лжи, и это вполне понятно. Он разговаривает с богом, которому известно все и чей взор проникает в глубину сердец... Однако если мы спустимся с небес на землю, то увидим, что подобные мемуары могут ввести нас в заблуждение — и по причинам куда более важным, нежели те, что были у Жана Жака. У святого предмет его исследований, которым является он сам, самоуничтожается перед богом. Перед тем, кто есть всё, он становится ничем.
Но, решив ограничиться одной-единственной главой воспоминаний, я ищу этому оправдание в слишком высоких сферах. Разве истинная причина моей лени не в том, что вся наша суть проявляется в наших сочинениях? Не лжет только фантазия: она приоткрывает ведущую в жизнь человека потайную дверь, через которую, несмотря на все предосторожности, выскальзывает его неведомая душа.
I
Смерть отца. Вечерняя молитва. Детский сад.
Я так никогда и не свыкся с тем, что, к несчастью, не знал отца. Когда он умер, мне был год и восемь месяцев; подари ему провидение еще несколько недель — я уже не забыл бы его: я ведь помню его мать, пережившую сына всего лишь на год.
Я помню ее в передней унылого дома в Лангоне, куда я поместил драматические события романа «Прародительница»; то было просторное жилище с расшатанными дверями, и по ночам, когда проходили поезда ветки Бордо — Сет, оно ходило ходуном. Старая дама, страдающая болезнью сердца, сидит в кресле возле круглого столика, на котором лежат колокольчик и коробка с леденцами. Я краду у нее леденец, а она, смеясь, грозит мне тростью.
А вот отца, который сошел в могилу несколькими месяцами раньше ее, я не помню. Он отправился в поместье, находившееся в ландах между Сен-Семфорьеном и Жуано и полученное им недавно в наследство от дяди Лапера. В тот вечер он вернулся с сильной головной болью. Впоследствии, если в день контрольной по арифметике я принимал решение не идти в школу, то знал, что стоит мне со страдальческим видом коснуться рукою лба, как мать тут же забеспокоится и оставит меня дома.
Я не запомнил отца, но сохранил в памяти атмосферу тех дней, когда следы его присутствия были еще свежи; и когда мать открывала шкаф у себя в комнате, я разглядывал лежавшую на верхней полке черную шляпу — котелок «бедного папы».
Мы тогда уже не жили в доме на улице Па-Сен-Жорж, где я родился и где он умер: молодая вдова с пятью детьми нашла пристанище у своей матери на улице Дюфур-Дюбержье. Мы занимали там четвертый этаж. Средоточием жизни была материнская спальня, оклеенная серыми обоями; мы собирались вокруг китайской лампы, увенчанной розовым гофрированным абажуром. На камине копия Жанны д'Арк работы Шапю * прислушивалась к небесным голосам. За окном, в зависимости от времени года, то вонзались в душный вечер крики стрижей, то наполнял звоном рождественскую ночь большой соборный колокол, то стонали в тумане гудки пароходов. С девяти часов мать становилась на колени, а мы жались к ее подолу. Мои братья ссорились из-за «уголка» между скамеечкой для молитвы и кроватью. Тот, кому удавалось занять это привилегированное место, зарывался лицом в ниспадавший до полу балдахин, часто засыпал при первых же словах: «Припадая к стопам Твоим, Господи, благодарю за то, что ты наделил меня сердцем, способным познать и полюбить Тебя...» — и просыпался лишь при последних мольбах: «Мучимый сомнениями, не постигнет ли меня смерть этой же ночью, вверяю Тебе, Господи, душу свою, да не осуди ее строго в гневе своем...»
В каком возрасте стала меня волновать эта восхитительная молитва, распространенная в бордоском диоцезе *? Кажется, уже в самом раннем детстве я испытал потрясение от этих заклинаний: для меня они звучали еще и патетически. Так, вместо формулировки: «Мучимый сомнениями, не постигнет ли меня смерть этой ночью» — я годами слышал: «Мучимый сомнениями, молю Тебя, Господи, да не постигнет меня смерть, ах, только не этой ночью!» К тому же и мать, закрывшая сперва лицо руками, вдруг открывала его, голос ее, вначале сдавленный, внезапно прорывался: так исполненный тоски хрип, который я подстерегал каждый вечер, превращался в моем воображении в это «ах», и, возможно, отсюда берет начало моя тяга к внешнему, несколько нарочитому проявлению чувств.
Наши ночные рубахи были так длинны, что я не смог бы почесать себе пятку. Мы знали: всевышнему угодно, чтобы дети спали, скрестив руки на груди. Мы отходили ко сну, сложив руки, как бы пригвоздив ладони к своим телам, прижимая к себе освященные медальоны и ладанку Мон-Кармеля, с которой нельзя было расставаться даже при мытье. Мы, пятеро детей, уже сжимали в страстном объятии незримую любовь. Дыхание матери находило в темноте наши лица и касалось каждого из них. Затем она наконец спускалась к бабушке, занимавшей нижние этажи. Я помню, какой страшный, оглушительно громкий раздавался стук, когда она закрывала за собой входную дверь. Теперь прибежищем от одиночества мог быть только сон.
С пяти лет мать стала водить меня в детский сад, которым руководила сестра Адриенна; находился он на улице Мирай, как раз напротив того пансиона Святой Марии, где марианиты * в черных длиннополых сюртуках, шелковых шляпах и войлочных туфлях занимались обучением моих братьев. Я носил длинную блузу и коротенькие белые штанишки, которые мне можно было пачкать: у Мари-Лоретт был в запасе целый их ворох. Пальцы нам оттирала пемзой послушница — эти бедные пальцы порой уже носили на себе следы от указки-«хлопалки» сестры Асунсион, монахини с горящими, как уголь, глазами. Я помню свой первый день в детском саду, и влажное тепло у себя на ноге, и лужу под собой, которую я разглядывал с глупым видом, и всех детей, показывавших мне рожки. Воспоминание это или же все-таки (как я и думаю) выдумка моих братьев? Они уверяли, что, когда раздавался необычный звук, сестра обнюхивала у всех нас попки до тех пор, пока запах не выдавал провинившегося. Они также утверждали, что в случае крайней нужды следовало поднять один палец, если хочешь «по-маленькому», и два пальца, если «по-большому». Но это уже область легенд.