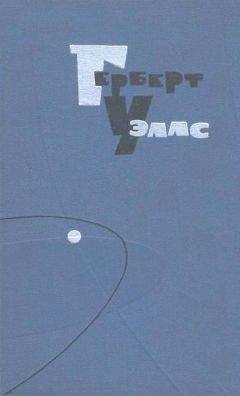Мой мудрец сидел почти неподвижно, лишь время от времени почесывал кудлатую грудь или руки, а однажды зевнул во весь рот. Но даже в неволе и скорее всего смертельно больной, ибо эти крупные обезьяны отличаются ужасающей предрасположенностью к чахотке и прочим человеческим хворям, орангутанг отнюдь не казался несчастным. Его маленькие карие глазки взирали на мир умно и спокойно. Я не думаю, чтобы он чувствовал себя несчастным, хотя, лишенный свободы и больной, он имел для этого все основания. Если бы я мог проникнуть в его мысли, проникнуть под этот череп, похожий на кокосовый орех, я, должно быть, не обнаружил бы там ничего, кроме дремотного и наивного интереса к людям и павианам. Он взирал на это беспечно, как ребенок, глядящий в окно: сквозь его мозг проплывали тусклые образы увиденных им предметов, и ничего более. Я сомневаюсь, чтобы он был, хотя бы в самой малой степени, огорчен или удручен неволей. Быть может, хотя я далеко не уверен в этом, он был бы счастливее в родимых джунглях, но он, безусловно, не отдавал себе в этом отчета. Он позабыл свой лес, а ежели и вспоминал родимое гнездо, то разве что во сне. Быть может, эти сны были ужасны, быть может, он испытывал облегчение, просыпаясь в безопасной и просторной клетке. Я считаю, что этого орангутанга можно признать существом, довольным жизнью.
Еще до отъезда в Париж, во время последнего моего пребывания в Лондоне, я видел фильм под названием «Симба», снятый весьма интересными, отважными и предприимчивыми людьми — супругами Хоп Джонсон. Это картины из жизни животных — на пастбищах, на водопое, во время охоты. Зрелище целого стада мирно трусящих рысцой жирафов надолго останется перед моими глазами. Воистину великолепным было движение колышущихся голов. Но это так, к слову. Все эти львы, слоны, жирафы и антилопы показались мне если не преисполненными живой радости, то во всяком случае довольными жизнью, и довольными кажутся мне также домашние животные, которых мне приходится наблюдать. Я слышал мнение, что дикие животные на воле «загнаны страхом». Мне кажется, страх подстерегает этих животных на каждом шагу, но не преследует их непрестанно. Фильм «Симба», безусловно, подтверждает мое мнение. Нужно иметь более сложно устроенный мозг, чтобы предаваться такой неотвязной тревоге. Кстати, Фоксфильд утверждает, что животные не поддаются покорно несчастью, так же как и боли. Они тотчас же пытаются от него избавиться, и хотя иногда защищаются неосторожно и даже самоубийственно, страдание у них тотчас переключается в действие. Даже если находят при этом гибель, избавляются от боли.
Взгляд Фоксфильда на количественное соотношение боли и удовольствия, неприятных и приятных состояний в жизни животного не слишком утешителен. Хотя, по его мнению, животное и недостаточно разумно, чтобы постоянно ощущать несчастье, однако отдельные несчастные моменты могут заполнить большую часть его жизни. Ничто в его биологических познаниях не говорит за то, что это невозможно. Фоксфильд расправлялся с этой проблемой, сидя после купания на кремнистом пляже в Портюмэре. Он неторопливо осушал полотенцем волосатые грудь и спину, а порой прерывал это занятие, чтобы получше сосредоточиться. Ни за какие коврижки он не хотел принять мой тезис о преобладании в жизни счастья, тезис, который поразил меня в Ренне как внезапное откровение. Фоксфильд рассуждал, что, по природе вещей, на просторах бесконечно долгого времени счастье, быть может, значительно преобладает над несчастьем, но этого нельзя утверждать как нечто неизбежное или само собой разумеющееся применительно к какому-нибудь отдельно взятому отрезку времени или к какому-нибудь биологическому виду.
Большинство существующих видов должно быть «относительно хорошо приспособлено» к условиям, ибо в противном случае они давно бы исчезли с лица земли. Средним особям такого относительно хорошо приспособленного вида живется неплохо, в меру их собственных потребностей. Особям слабейшим, которым суждено погибнуть в борьбе за существование, живется худо. Таков всеобщий закон природы, и с этим приходится считаться. Но жизнь слабейших существ обычно коротка, их страдания не длятся долго. В то же время особи, лучше приспособленные, живут дольше, и в жизни их гораздо больше приятных мгновений.
— Жизнь не терпит боли, — говорил Фоксфильд. — Иначе она не могла бы продолжаться. Боль — это сигнал природы, призывающий к мятежу. Природа дает животному понять: «Так дольше быть не может!» Животное бунтует, противится страданию и становится перед выбором: умереть или выздороветь.
Что же касается человека, — говорил Фоксфильд, выныривая из сорочки и демонстрируя мне беспристрастное лицо Науки, — что касается человеческих несчастий, то, по-моему, здесь действуют те же законы.
Теперь он стал надевать штаны; однако он был до того погружен в свои мысли, что натягивал их задом наперед и обнаружил свою ошибку только тогда, когда не сумел найти пряжки подтяжек в положенном месте. «Вот дьявольщина!» — пробурчал он и принялся исправлять ошибку. В тот миг; когда случилась эта неприятность, я как раз собирался спросить его, не считает ли он возможным, что некоторые человеческие существа находят особое счастье в усердном причинении себе несчастий. При этом я думал о порою совершенно непостижимых для меня поступках Долорес. Но зрелище Фоксфильда, единоборствующего с собственными штанами, так меня захватило, что я забыл на минуту об этой проблеме. Особенно интересным был момент, когда обе его ноги очутились в одной штанине. Одевшись наконец надлежащим образом, он уселся на скале, откинул со лба прядь волос, строптиво падающих на серьезные очки, и продолжал прерванное рассуждение.
— Видишь ли, уже в самых исходных принципах я не согласен с Пэлеем, — сказал он.
— С Пэлеем?
Он напомнил мне, что Пэлей начинает свои «доказательства» утверждением, что мир, несомненно, был сотворен для счастья живущих в нем. Значит, Пэлей был того же мнения, что и я.
— Культурный человек конца восемнадцатого столетия верил в это беспрекословно, — сказал Фоксфильд. — Для Пэлея это было очевидностью, не подлежащей обсуждению. Но правда ли, что в жизни существ, достаточно приспособленных к условиям, преобладают мгновения счастья?
Фоксфильд, сидя на кремнистом пляже, как арбитр от биологии, постановил, что это истинная правда. Действительно, жизнь многих хорошо приспособленных видов — это бесконечная цепь убийств, но это еще не значит, что она неприятна. Возьмем, к примеру, лягушку. Тысячи головастиков гибнут, прежде чем крохотный лягушонок избавится от хвоста и выскочит из воды на бережок. Из множества лягушат, в свою очередь, гибнут сотни, и только бесконечно малое число их достигает зрелого возраста. До тех пор, однако, пока на голову им не обрушится какой-нибудь удар, существа эти ведут вполне приятную жизнь. Именно эта беспечность и приводит их к гибели. Но, вещает Фоксфильд, смерть только тогда является несчастьем, когда о ней думают заранее. А изо всех тварей земных кто думает о ней, кроме человека?
— Каковы важнейшие элементы несчастья? Боль, страх, горе. Но они проходят. Разочарование, подавление инстинктов… Подавление инстинктов, — повторил Фоксфильд, как будто бы нащупав ключевую проблему. — Кто может быть несчастнее пса на цепи? — вопросил он.
— Или птицы в клетке? — прибавил я.
— А ведь это куда хуже, чем вивисекция. Люди вообще преувеличивают страдания, причиняемые вивисекторами, и недооценивают клеток и цепей, не задумываются о жалком существовании комнатных собачонок, которые вынуждены в течение всей своей жизни ежесекундно подавлять свои инстинкты…
Мне вспоминался Баяр, любимец Долорес, посапывающий в объятиях своей госпожи, Баяр, который не знал иной жизни и потому не мог постичь истинных причин своей тявкающей злобности.
Фоксфильд продолжал свои рассуждения. Если речь идет о виде, хорошо приспособленном к среде, живущем в таких же самых условиях, что и сотни тысяч предшествующих поколений, то у нас есть все основания предполагать, что его нормальная жизнь протекает весьма приятно. А если рассматривать жизнь в целом, то большинство видов существует в областях равновесия или также в условиях, изменяющихся настолько медленно, что живые существа успевают приспособиться к новым требованиям. Это говорит в пользу преобладания счастья в истории сознательной жизни в прошлом.
Все, однако, выглядит иначе в периоды, когда условия среды изменяются слишком быстро. В таких случаях существующие виды оказываются недостаточно приспособленными к требованиям жизни. И только исключительные особи сравнительно легко справляются с обстоятельствами. Возрастает процент банкротств и число особей, в большей или меньшей степени подавленных и угнетенных. У нас есть все основания считать, что существование вида, вымирающего или испытывающего внезапные и стремительные модификации, является в большинстве случаев чрезвычайно жалким. Но не всегда. Можно одинаково легко вообразить себе угасание видов, сопряженное с болью и страданием, как и безболезненную гибель. Допустим, что среда, в которой живут лягушки, не подвергается ни малейшим изменениям, но только появляется какое-либо новое животное, пожирающее лягушек, более ловкое и более прожорливое, все лягушки могут пасть жертвой этого животного, но каждая лягушка в отдельности до самого последнего своего мгновения будет весело скакать, сослепу не замечая гибели своих товарок и к тому же начисто лишенная интереса к статистике и судьбам вида. Но допустим теперь, что гибель явится не в образе нового пожирателя лягушек, а как изменение условий среды. Ну, скажем, лягушки никак не смогут найти пригодного для них легкоусвояемого корма! В таком случае вынуждена страдать каждая отдельная особь. И весь вид тоже будет вынужден исчезнуть, и исчезновение это будет происходить самым болезненным образом.