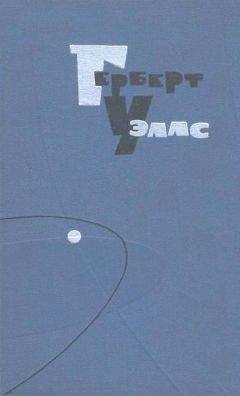Естественно, личности умирают, умирают целые поколения и уносят с собой в могилу свои предрассудки и страсти. Смерть работает на прогресс. Есть среди нас люди, которые силятся привить молодому поколению новые идеи. Ты принадлежишь к их числу. Но действительно ли ты проникаешь в душу молодых? Видишь ли, времени осталось немного.
Механизация, видишь ли, постоянно уменьшает количество необходимого труда и тружеников, в то время как на нынешней ступени развития большинство людей способны только к физическому труду. Каким образом мы сможем внезапно переделать этих людей, чтобы они смогли жить иначе? И что другое должны они делать? Ты скажешь мне: нужно обучать их. Но чему обучать? Какова будет новая мировая экономика, каковы будут новые функции человека? Еще сто лет тому назад крестьянская сельскохозяйственная продукция была абсолютно необходимой; сегодня это не так, но упрямый мужик остался реальным и непреложным фактом. Перед нами, с одной стороны, классы совершенно излишние, упершиеся на своем, а с другой стороны — массы также излишние, избытки людей в промышленных районах и избыток обнищавших крестьян, цепляющихся за свои клочки земли всюду, где земля хочет что-то родить. Эти массы и эти крестьяне не располагают покупательной способностью либо утрачивают ее все больше, в то время как аппетиты их растут и горечь углубляется. Человек, лишенный работы, несчастлив, а нередко и опасен. Уж не истребить ли всех непроизводительных? Но они будут бесконечно несчастливы, если даже мы дадим им средства к существованию. Как видишь, что-то тут надо делать.
Прогресс науки и техники не только устранил потребность в многочисленном населении, но и победил громадную детскую и общую смертность, которая регулировала некогда народонаселение земного шара. Даже если прирост человечества прекратится, даже если число людей начнет уменьшаться, останется все-таки избыток ненужных существ. Это отнюдь не проблема абсолютных чисел, а проблема пропорции. Чем меньше потребителей, тем меньше нужно работы. Детей уже и теперь считают лишними, а в будущем они будут все менее и менее желанными и, значит, все больше будет женщин, ненужных ни в качестве матерей, ни в качестве хозяек дома, ни в качестве женщин в высоком и благородном смысле этого слова. Подавление и искажение наиболее существенных инстинктов будет тогда обычным жребием женщины. По сути дела, с точки зрения сохранения вида половое влечение женщины очень слабо, недостаточно развито. На животной стадии развития было достаточно похоти; женщина наших дней жаждет чего-то большего. Быть может, искушать и опустошать мужчин, но существуют пределы искушения этих легковозбудимых и столь же легкоисчерпывающихся самцов. Столь же легкоисчерпывающихся, — повторил он с заметной ноткой сожаления в голосе. — Итак, перед женщиной в еще большей степени, чем перед мужчиной, открывается перспектива существования праздного, пустого, бесцельного, лишенного настоящего смысла.
Кошмар нашего мира, — прибавил Фоксфильд, — это ненужная, неудовлетворенная женщина. Она омрачает небо.
С минуту я силился припомнить, говорил ли я ему когда-нибудь о Долорес, но следующая его фраза меня успокоила.
— Ты, — говорил Фоксфильд, — с твоим природным оптимизмом, с твоим здоровым чутьем, которое позволяет тебе точно оценивать, какие книги будут иметь спрос, ты, с твоим призванием к воздействию на умы посредством книг, учебников, энциклопедий и тому подобного, ты скажешь мне, конечно, что дело можно будет уладить, овладеть положением и добиться новой, счастливом жизни для человечества. Исполинская воспитательная работа! Из всех живущих на свете существ воспитать джентльменов и утонченных леди и в то же время сделать из них настоящих тружеников! Я не уверен, что это удастся, Уилбек, я весьма сомневаюсь. Весьма я весьма. Заметь, я не ловлю тебя на ошибке, но я не могу поверить в твою правоту. Нынешнее состояние науки не позволяет установить, прав ты или нет. Ведь как мы сейчас все живем: нас захлестывают мелочи, мы болтаемся без дела, слишком много думаем о женщинах, еще больше ищем сильных ощущений, и у нас скопилось столько горечи и тревоги. Где же оно, твое новое воспитание? Все живущее требует его. Процесс приспособления принесет неисчислимые страдания, прежде чем человечество ясно увидит хотя бы только путь к новой, счастливой жизни, к жизни на высшем уровне, к жизни просторной, как мир. А кто знает, будет ли этот путь вообще открыт? Ты сам признаешь, что приятное для глаз сияние, которым ты тешился в Ренне, — это сияние заката, вечерняя заря. Покажи мне хоть где-нибудь в мире утреннюю зарю!
Так говорил Фоксфильд…
Мне следовало бы ответить ему, что никогда, ни в какой определенный момент нельзя сказать: «Вот заря. Здесь, на этом месте, в этот миг». Он требовал невозможного. Попробуйте точно обозначить миг восхода солнца, а между тем восход есть явление совершенно конкретное. Это — подтверждение того, что день уже наступил. К сожалению, мне не пришел тогда в голову этот ответ. Но для меня нет сомнений, что уже светает. Светает со времен Возрождения. Это великий процесс, и на него нужно много времени. Свет рассеянный, ярчающий совсем неприметно, но так всегда загорается день. Человеческие умы идут к идее «мирового строя». Все больше среди нас людей, которые отдают себе отчет в объеме и взаимосвязи стоящих перед нами проблем. Все возрастающий спрос на серию моего издательства «Путь, которым идет человечество» об этом свидетельствует. Это, конечно, только малая малость, но все-таки это — доброе предзнаменование.
Люди стремятся узнать то, что им следует узнать… Новое устройство мира не принесет жестокого разочарования, как предсказывают умничающие эстеты. Авторитет прежних институтов колеблется; идолы, набитые опилками традиций, быть может, завтра уже рухнут и рассыплются в прах. Средние века во многом еще не пришли к концу, но конец их уже близок. Наводнение западного мира догматами иудео-христианской мифологии было умственной катастрофой большого масштаба, понятия человека о жизни оказались погребенными под толстым панцирем страха, заблуждений и нетерпимости. Эра христианства была эрой критики шепотом, затаенной иронии и болезненных страданий для наиболее утонченных умов. Такие умы бывали в каждом поколении. Каждое поколение производило интеллекты достаточно острые, чтобы преодолеть его ограниченность. Этим исключительным личностям, должно быть, казалось, что человеческий разум угнетен навеки. И, однако, в сердце человека живет чудесное стремление к истине. Человек роптал, издевался, богохульствовал. Человеческий разум в течение долгих столетий с превеликим трудом прогрызался сквозь обступившую его тьму, пока мы не обрели ясное видение жизни.
Сперва возникла космогония; мир, задушенный и уплощенный христианским невежеством, обрел свойственную ему округлую форму, увеличился в размерах, звезды возвратились на свои места. Потом развилась биология, потускнела вздорная история об Адаме и его гневном Создателе, погасли адские костры, дата грехопадения человека выпала из календаря, и теперь в истолковании истории и на путях и перепутьях нашего прогресса мы освобождаемся от последних навязчивых и упорных пережитков ложной жизненной концепции. В наши дни перестроены принципы этики. Наши нравы улучшились. Мы обуздали нашу горячность и усмиряем ее. У нас иной взгляд на наше собственное «я», и мы отдаем себе отчет в иллюзиях эгоцентризма.
А по мере того, как мы освобождаемся от былых наивных и ребяческих надежд, мы научаемся предвидеть и избегать разочарований. То, что по нашим нынешним понятиям кажется нам странным, может оказаться приятным, если стать на иную точку зрения. Когда придут новые времена, люди будут иначе мыслить. Мы же умрем, и вместе с нами умрут наши ценности. Мне бы следовало оспорить мнение Фоксфильда, что скорость перемен превосходит человеческую приспособляемость. Он прав, когда говорит о головокружительном темпе происходящих изменений, но я не верю, что человек окажется неспособным к ускоренной адаптации, ежели этого потребуют обстоятельства. Мы не столь негибки, не столь закоснели; Фоксфильд не учитывает нашей забывчивости.
В то же время он недооценивает воздействие нового воспитания, которое может чрезвычайно отдалить молодое поколение от старых, избитых чувств, выцветших эмоций. Люди упрямы, но по сути дела вовсе не консервативны. Оказался достаточным, например, срок, не превышающий трети столетия, чтобы произошли огромные изменения в области половой морали. Так почему же невозможны столь же кардинальные перемены в представлениях политических и хозяйственных? Нет, отнюдь не неизбежна та пресловутая эра катастроф и страданий, картину которой развернул передо мной этот неблагодарный Фоксфильд, пророчествующий беды пред лицом осиянного солнцем моря. Катастрофа возможна, но отнюдь не неизбежна.