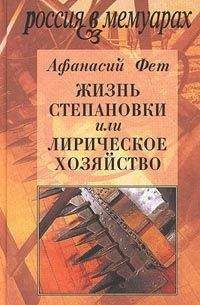Земледелие, в сущности, не какая-либо потребность жизни, оно сама жизнь. Из этого неоспоримого положения вытекают два следствия. 1-е. В земледельческом государстве поощрять земледелия нельзя, как нельзя поощрять жизнь. 2-е. В таком государстве ни один специальный деятель, если он искренно желает успеха даже своей специальности, не должен ступить шагу, не оглянувшись на земледелие и не сообразив, не может ли это вредно подействовать на последнее. Крестьянская реформа, железные дороги и новое судопроизводство до того изменили коренные условия нашего земледелия, что его без преувеличения можно назвать делом новым. За последние 10 лет оно кидается по всем направлениям, отыскивая новых путей, и не только не отыскало их окончательно, как по отношению производства, так и по отношению к сбыту, но едва ли еще настало время определить эти пути в будущем. Еще далеко ему до того квиетизма рутины, в котором оно покоится на Западе и которым так любовались наши поэты до крестьянской реформы. У нас, где большинство нив находятся в руках, сравнительно с крестьянами, крупных владельцев, последним, теперь или никогда, время взглянуть на это дело со всей сериозностью, какого оно ожидает.
Пора понять ту простую истину, что у нас арендаторов, прикащиков и старост не только нет, но надолго и быть не может. Все эти люди у нас могут только быть посредствующими орудиями хозяина и могли быть самостоятельными деятелями только в области рутины. Но туда, где первым деятелем является нравственная личность, где любовная, справедливая и цивилизующая деятельность неминуемо должна ложиться краеугольным камнем всего дела, посылать вместо себя другого — немыслимо. Отсутствующий владелец еще может, с грехом пополам, держать себя так, чтобы пензенские его арендаторы или прикащики его любили, но послать туда такого прикащика, который вызвал бы любовь окрестного населения к отсутствующему неаполитанцу, мудрено. В этом случае личный интерес первого крупного землевладельца-крестьянина или мещанина выставит его непобедимым конкурентом, хотя и в ущерб общему делу. Там, где дело идет об цивилизующем призвании землевладельческой среды, из которой исходит суд и главные земские деятели, нельзя вместо себя посылать другого. Тут надо или добросовестно отказаться от дела, или, запасшись основательным общечеловеческим образованием, какое дают одни университеты, поступить на добросовестное служение. В этом случае высшее университетское образование далеко не прихоть, не роскошь, какими оно было до реформы, а насущная потребность, которой обойти нельзя, если у страны есть будущность. Не служебная карьера с ее чинами, а самое дело этого требует, и нельзя достаточно благодарить настоящее Министерство народного просвещения за его сериозный взгляд на высшее образование. Можно положительно сказать, что терпимое прежде: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», к которому, и то с фехом пополам, могут быть приравнены какие-то мнимо-реальные гимназии, отныне не может быть терпимо в качестве условий для публичной деятельности. Ремесленники могут учиться чему-нибудьи как-нибудь, но люди, призванные вести народ по всевозможным путям преуспеяния, обязаны пройти школы высшего образования. Если современные землевладельцы этого не поймут и, увлекаясь мыслию, что вовеки веков можно отсидеться в местном кругу личных вкусов и удовольствий, то таким неверным расчетом они не изменят сущности дела, а только на неопределенное время задержат неизбежный ход его. Крестьянин, купивший 2000 десятин на берегу Оки, сначала хотел сломать прекрасный господский дом и уничтожить усадьбу, а теперь просит за нее 30 тысяч и говорит, что продать ее — значит изгадить все имение. Если он сам, ходящий летом в бараньей шапке, в один год понял, в чем дело, и держит для сына рысаков, при наезднике в 25 руб. в месяц, то поверьте, что внук его силою вещей будет приведен на лекции Пиндара и философии. Не напоминает ли вам, читатель, этот крестьянин с сыном другого, выведенного Аристофаном в «Облаках»?
И там рысаки и новая обстановка жизни вынуждают отца отдать сына в школу Сократа. Ничего нет нового под солнцем, и сила одинаковых обстоятельств приводит к одинаковым результатам.
Единственно в интересах земледелия решаемся сказать несколько слов об одном из важнейших вопросов, стоящих теперь на очереди. Мы говорим об общей военной повинности. Эта мера может как прямой источник народного образования оказать стране неисчислимые благодеяния. Она ослабит то безнравственное чувство отвращения к делу государственной обороны, которое заявляло себя в народе такими действиями, как, например, членовредительство. Но всех этих благ можно только ожидать при одном условии. Сроки службы должны быть уменьшены до последней крайности, но зато в течение этого срока человек должен быть непрерывно на службе. Если трудно однажды в жизни оторваться от насиженной среды, то подвергаться таким хозяйственным кризисам по нескольку раз — слишком тяжело.
Можно ли во всех отношениях лучше удовлетворить предсказаниям, чем исполнил это 1870 год, ныне канувший в вечность. Всю осень дождь лил как из ведра. Хлебная уборка производилась урывками и с необыкновенным напряжением, а молотьба с половины сентября должна была остановиться до морозов. Около половины ноября, в ненастную погоду, по невылазной грязи, нам с письмоводителем пришлось ехать верст за 30 на разбирательство щекотливого дела, требовавшего осмотра на месте. Хотя мы стороною знали, что все дело было salto mortale промахнувшегося подрядчика и гражданский иск основывался на неопределенном выражении контракта, а уголовное обвинение оказывалось чистой клеветой, но как клевета относилась к женщине, пользующейся всеобщим заслуженным уважением, то задача состояла не в одном оправдании обвиняемой, а в непременном, безусловном окончании дела мировою. Порядочная женщина не может равнодушно относиться к тасканию ее имени по публичным заседаниям хотя бы вследствие явной клеветы, и суд не должен упускать из виду этой стороны дела. Разбирательство было назначено в доме обвиняемой. Ночевать там было негде, а произвести осмотр и обмер в поле, спросить до 30 свидетелей и разобрать сложное дело, проехав по невылазной грязи 60 верст, все это в один день тоже невозможно. К этим соображениям присоединилась боязнь за женское судоговорение, отличающееся, как бы это покороче сказать, — излишней субъективностью. Размышляя о способах избежать двойного неудобства, мы остановились на мысли ночевать на полупути у Матвея Матвеича и просить его принять на себя защиту знакомой ему особы. Матвея Матвеича Хрящева я знал еще лихим гвардейским корнетом, владетелем славного в свое время орловского жеребца Ашонка. В настоящее время Матвею Матвеичу лет под 40. Он давно в отставке, отец семейства и ревностно принялся за устройство наследственного имения. Хорошо владея новыми языками, особливо немецким, он много и с толком читает, но охотно говорит только о практических сторонах жизни. Подвижной, как ртуть, он дома не посидит на месте и постоянно ищет производительного занятия. Он вечно в поле, на гумне, в коровнике, в саду или в кабинете за письменным столом над контрактами, планами, со счетами, ключами или деньгами в руках, а не то на крыльце пред собравшимися рабочими. Даром он не истратит лишней копейки, но там, где предприятие обещает успех, он не задумается пустить в оборот тысячи. Лет уже десять принялся он перестраивать свою старинную усадьбу, каждый год у него стройка, и, надо сказать правду, все строится отлично. Ближайшие соседи Матвея Матвеича говорят: дай Бог ему поскорей отстроиться — он так пристрастился к постройкам, что, когда у него нечего будет строить, он, верно, перестроит наши усадьбы. Еще до открытия в нашей местности железных дорог мы все покупали сажень березовых дров по 8 рублей. Матвей Матвеич по поводу значительного маслобойного производства запасся большим количеством березовых дров. «Матвей Матвеич, почем берете сажень?» — «По 12 рублей». — «Да ведь это в 1 1/2 раза дороже нашего!» — «А по-моему, вдвое дешевле. Я принимаю сажень у себя на дворе, а вы в лесу. Там он вам наберет лицевую сторону сажени, а сзади и не смотри; да кроме того, что ему за дело, что при. перевозке у вас раскрадут дрова. А тут он три раза в неделю приедет посмотреть, куда идет его лес. Посмотрите-ка мою кладку. Если вы хоть одно лишнее поленце поместите в мою сажень, я заплачу вам 100 рублей».
Все переняли методу покупки дров у Хрящева. Разумеется, несмотря на свою практическую деятельность, Хрящев при непрестанном отыскивании новых путей дела нередко попадал в непроходимые места. Но в таких случаях он упорно молчит об убытках. На словах он постоянный оптимист.
После обеда выехали мы из дому и часов в 7 вечера, впотьмах, добрались до усадьбы Хрящева. У главного подъезда большого дома нас кто-то окликнул. «Тут, верно, нельзя пройти?» — спросили мы сторожа. «Точно так, — стройка». — «Покажи, любезный, где же можно пройти». — «Пожалуйте за мною на тот конец». Тарантас шагом зашлепал к противоположному углу дома. Из погреба мелькнул фонарь и, ползя к нам навстречу под проливным дождем, освещал скользкую полоску по грязи положенных досок. «Ниже свети!» — крикнул фонарю дворник, помогавший нам выйти из тарантаса. «Извольте ступать по доскам», — прибавил тот же голос, обращаясь к нам. Держась рукою за месившего грязь дворника и стараясь не соскользнуть с узкой тропы, мы припомнили Блондена на канате. Доски привели нас к дверям подвала. «Сюда, пожалуйте сюда», — сказал фонарь, освещая скользкие каменные ступени. Хватаясь за что попало, мы стали спускаться. Дверь отворилась, и мы очутились в каменном подвале, слабо освещенном ручною лампой. Оглядевшись немного, мы увидали вверху подвала светлое отверстие, к которому вела новая, девственно-чистая лестница. На верхней площадке, в ярком освещении, стоял Матвей Матвеич. «Извините, ради Бога, — торопливо проговорил он нам навстречу. — Хорошо, что вы нас предупредили. У нас такой хаос с этой постройкой. Как вы не сбились с дороги в такую ужасную погоду? В бельэтаже до сих пор нет свободного утла, и потому позвольте вас просить на мезонин, который доведен до степени обитаемости». Пока мы раздевались, Матвей Матвеич уже засуетился по другому поводу. «У вас назначено разбирательство, — сказал он, обращаясь к нам, — но где же вы будете разбирать?» — «Здесь, в этой передней: чем это не камера? Прикажите только поставить стол и стулья, а в портфеле у нас все нужное для разбирательства». — «Этим я сейчас распоряжусь, — сказал Матвей Матвеич. — Если вы обедали, так пойдемте наверх к жене и сейчас подадут самовар». — «Нет, лучше покажите ваши работы в бельэтаже. Отсюда слышно, как там строгают, пилят, рубят, — а потом прямо приступим к разбирательству. Тяжущиеся, верно, собрались. Дел немного и в перспективе самовар и отдых. Так будет гораздо удобнее и приятнее, чем наоборот». — «Пусть будет по-вашему», — отвечал Матвей Матвеич, отворяя дверь во внутренние покои, наполненные рабочими. Мы вступили в царство досок, взгроможденных паркетин, стружек, кирпичу и пыли. Все работы производились в наилучшем виде. Видно было, что хозяин ничего не жалеет и зорко за всем следит. «Кажется, — смеясь заметил Матвей Матвеич, — первым на разбирательстве явится ваш давнишний знакомый, бывший воспитанник Горыгорецкого института, мой прикащик на отдельном хуторе. Набрался он разных умных слов, но в сущности довольно бестолковый человек. Намедни устраивали на хуторе новый колодезь с насосом. Приезжаю и вижу, что дело не ладится. Спрашиваю, не послать ли за мастером? „Помилуйте, — отвечает горыгорецкий, — зачем же? Это так просто — при давлении на рычаг образуется в трубке цилиндра торичеллиева пустота. Я это сам могу устроить“. С тем я и уехал. „Ну что, — спрашиваю я через два дня, — уладил насос?“ — „Нет-с. Нижний клапан как-то не ладится“. — „Эх, брат, — говорю я, — торичеллиева пустота-то, я вижу, у тебя в голове“. Он меня ужасно боится».