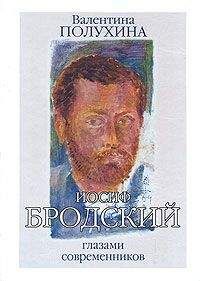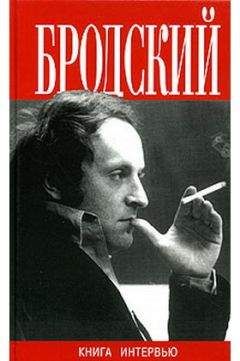Бродский видит в ваших стихах качества, в высшей степени свойственные его собственной поэтике, цитирую: "Интонация Томаса Венцловы поражает своей сознательной, намеренной монотонностью, как бы стремящейся затушевать слишком очевидную драму его существования[378]. Тем не менее вы считаете, что у вас с ним мало общего?
Полагаю, в слишком лестной для меня статье Бродский пишет прежде всего о себе
Переводили ли вы лично его на литовский язык и для каких журналов и сборников? Существует ли критическая оценка ваших переводов?
Я перевел несколько ранних, весьма мною любимых стихотворений Бродского — "Большая элегия Джону Донну" [С:130-36/I:247-51], "От окраины к центру" [0:28-32/I:217-20], "К Ликомеду на Скирос" [0:92-93/1:48-49], "Сонет" [0:98/II:61], "Остановка в пустыне" [0:166-68/11-13], "Эней и Дидона" [0:99/II:163], "Одиссей Телемаку" [Ч:23/II:301]. Они печатались в литовском эмигрантском журнале "Metmenys", а сейчас публикуются и в Литве[379]; в частности, они войдут в двуязычную книгу Бродского, которая должна появиться в Вильнюсе. Большинство вещей для этой книги перевел молодой поэт Гинтарас Патацкас (Gintaras Patackas). Критическая оценка моих переводов дана только в нескольких письмах. Гинтарас Патацкас оценил их восторженно, а знаток поэзии, старинный мой и Бродского друг, Рамунас Катилюс (Romas Katilius) — скептически.
Как вы относитесь к переводам Бродского ваших стихов? Что из них опубликовано?
Опубликован один перевод — стихотворение "Памяти поэта. Вариант" [III:305-306] в "Континенте"[380]. Кстати, слово "вариант" в заглавии указывает на некоторую зависимость этой вещи от эпитафии Бродского Элиоту (и далее, от эпитафии Одена Иейтсу). Перевод Бродского очень свободен и, несомненно, лучше оригинала. Полагаю, эта публикация сыграла немалую роль в моей судьбе, так как резко ускорила мой отъезд из СССР. Есть еще неопубликованный, точный и хороший перевод стихотворения "Песнь одиннадцатая" [III:307-308][381].
Можно ли при желании установить стилистическую зависимость Бродского от литовской поэзии?
Не думаю. То, что Литва вошла в стихи Бродского — другое дело[382].
Вы уже писали о том, что большинство произведений Бродского входят в два разных текстуальных пространства, русское и английское[383]. Что выигрывают и что теряют его стихи, находясь в данной ситуации?
Я все же предпочитаю русские стихи Бродского английским и русские оригиналы — английским автопереводам. Быть может, дело тут в моих собственных отношениях с английским языком; а может, и в том, что русская просодия и категории, вернее, формы русского мышления резко отличаются от английских. В то же время английская эссеистика Бродского не имеет себе равных по четкости стиля, образов и наблюдений: здесь английский автоперевод (или оригинал) никак не уступает русскому тексту, бывает и лучше его.
Насколько интертекстуальная наполненность поэзии Бродского помогает нам определить его эстетические пристрастия?
Эстетические пристрастия всегда лучше определяются по интертекстуальным моментам, чем по прямым высказываниям типа "люблю того-то и то-то". Бывает ироническая, пародийная интертекстуальность, но она свойственна Бродскому, на мой взгляд, менее, чем обычно думают.
Как бы вы определили общий стилистический вектор его поэтики?
Поэтика Бродского — это продолжение и развитие (или "сверхразвитие") семантической поэтики акмеистов.
Изменился ли его поэтический мир после России?
Да, очень изменился. Миры эти, пожалуй, различны не менее, чем мир архитектуры Петербурга и мир архитектуры Нью-Йорка. Сейчас Бродскому свойственна нейтральная, "матовая" интонация в сочетании с крайней нагруженностью семантики и синтаксиса, с усложненностью ритма, с негомогенностью материала. Усилилось ощущение вселенского холода — было-то оно всегда, но такой предельной ясности, как, скажем, в "Осеннем крике ястреба" [У:49-52/II:377-80], не достигало. Это разъедает стихи Бродского — и авторскую личность — словно кислота сосуд, причем и стихи, и личность удивительным образом (быть может, по особому Божьему велению) не разрушаются, остаются целыми.
Не могли бы вы назвать основные фундаментальные категории, на которых построен, на ваш взгляд, его миро-текст?
Такие категории вряд ли следует выделять — получится либо слишком общая структура, применимая ко многим поэтам, либо нечто мелочное и тем самым пародийное. Можно, конечно, задать список типа "время", "город", "пустота", но от него до стихов — дистанция огромного размера.
Польский критик Клеменс Поженцкий определил главную тему Бродского как тему зла на том, видимо, основании, что зло есть отсутствие, пустота, минус, нуль — категории, переполняющие стихи Бродского[384]. По мнению Виктора Кривулина, у Бродского "тьма одолевается большей тьмой[385]. Вы же выделяете в качестве магистральной темы Бродского "бытие и ничто"[386]. Пересекаются ли все эти темы?
Разумеется, пересекаются. В свое время я говорил, что в словосочетании "бытие и ничто" логическое ударение может сдвигаться, в частности, его можно поставить на "и", то есть оно может находиться на мотиве границы, перехода (а также тождества). Стоит напомнить, что ничто — весьма сложно и разновидно: для его описания требуется большая густота поэтических средств, чем для описания предметов и явлений.
Есть еще одна любопытная тема у Бродского — тема "после конца . После конца чего?
Я склонен в этой связи говорить о посткатастрофистской или постэсхатологической поэзии — поэзии "после конца мира", каковым концом были Гулаг и Освенцим.
В свое время вы заметили, что родной город Бродского в его стихах нередко "предстает в апокалиптическом освещении, символизируя цивилизацию, подошедшую к грани катаклизма, точнее, уже перешедшую грань"[387]. Есть ли связь между темой города и темой конца?
Город есть финальное состояние человечества, примерно так же, как пещера была его начальным состоянием. Это говорят и мифы о блудном Вавилоне и небесном граде, и действительность нашего времени.
Вы один из немногих, кто высоко оценил "Путешествие в Стамбул" [L:393-446/IV:126-64][388]. Почему это произведение Бродского столь неприемлемо для многих христиан?
На этот вопрос следовало бы ответить тем, кто не принимает "Путешествия в Стамбул". Я говорил, что Бродский ведет себя в нем скандальнее Чаадаева, так как вскрывает авторитарный потенциал, присущий христианству как таковому и даже монотеизму как таковому (правда, из этого не следует, что монотеизм и христианство обречены этот потенциал реализовать; все же исторически он реализовывался не столь уж редко). Кроме того, Бродский утверждает, что метафизический заряд человечества шире христианства, то есть, что христианство не есть единственная истина. На мой взгляд "Путешествие в Стамбул" — выдающееся философское эссе, и при том, что я со многим в нем не согласен (кстати, я был в Стамбуле и вынес оттуда совсем другие впечатления, чем Бродский).
Что Бродский извлек из своего пристрастия к Риму?
Здесь стоит вспомнить палиндромон "Рим — мир". Рим и тождественен миру, и в то же время обратен ему, как вечное среди временного, смерть среди жизни, камень среди трав. Именно об этом тождестве и зеркальности написаны римские стихи Бродского.
Адресатом и субъектом его стихов все чаще становится "Время в чистом виде" [У:122/III:17]. Чем вы объясняете его тенденцию мифологизировать время?
Я не убежден, что Бродский мифологизирует время: с равным успехом речь могла бы идти о демифологизации. Так или иначе, на времени в огромной степени построена вся его поэтическая теория и практика. Время, в частности, связано с болью, а "человек есть испытатель боли" [К:63/II:210]. Отсюда же значение биографического текста для корпуса его творчества (свойство, которое Бродский разделяет с романтиками и Цветаевой, но отнюдь не с большинством поэтов двадцатого века).
Говоря о Цветаевой, Бродский пишет: "Действительность для нее — всегда отправная точка, а не точка опоры или цель путешествия, и чем она конкретней, тем сильнее, дальше отталкивание" [L:240/IV:108]. О ком он здесь говорит, о Цветаевой или о себе?
Все же скорее о Цветаевой.
Оказавшись за тридевять земель от родины, и вы, и Бродский невольно смотрите на свое отечество со стороны, что в сильной степени обеспечивает элемент отстранения, столь необходимый, по мнению Бродского, в поэзии[389]. Можно ли проследить у вас с ним явные и скрытые схождения в приемах выражения этого отстранения?