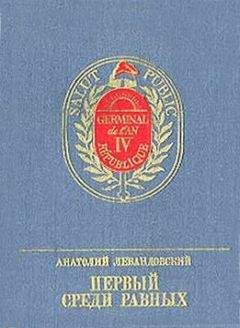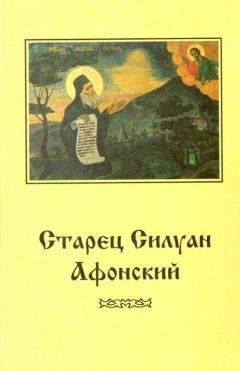Гостиная Лорана с трудом вместила приглашенных. Он позвал всех, чьё мнение было ему интересно. И сожалел, что не все смогли прийти.
Великий Давид, с которым Лоран не раз беседовал в его мастерской, Давид, сам бывший участником и творцом событий, упомянутых в рукописи, не дожил до этих дней.
Старый Вадье был при смерти.
Хитрый Сиейс, несмотря на то, что Лоран обучал его внучатых племянниц математике и музыке, вежливо, но твёрдо отказался присутствовать при чтении: он догадывался, что лично ему это чтение ничего приятного не обещает.
Барер примчался и, конечно же, присутствовал на всех вечерах — а чтение растянулось на шесть вечеров — и, конечно же, был самым многословным из всех выступавших.
Центральной фигурой среди приглашенных был де Поттер.
Вместе с ним явились несколько видных бельгийских демократов, в том числе братья Деласс.
Сара из скромности отказалась участвовать в обсуждении. Она слушала, находясь в соседней комнате.
Вечер шестой и последний растянулся на всю ночь: в этот вечер, сложив прочитанную рукопись, хозяин дома попросил гостей высказаться.
12
Сначала, и довольно долго, тянулось напряженное молчание — никто не хотел говорить первым; потом заговорили сразу несколько человек.
Мнения были однозначны: все одобряли рукопись, признавали её весомость, своевременность и необходимость обнародования.
— Чем скорее, тем лучше, — уверяли бельгийцы. — Смотрите, что делается кругом! Сейчас самое благоприятное время… Пусть всё свободолюбивое человечество узнает об этом замечательном мыслителе и революционере!..
Было задано множество вопросов. Всех интересовали источники творчества Лорана, степень его участия в описанных событиях, достоверность рассказанного.
— Скажите, метр Лоран, — спросил Александр Деласс, — все ваши монологи, диалоги, речи и размышления действительно имели место в том виде, в каком вы их преподносите? Или же это плод вашего вымысла?
— Я ничего не придумывал, — твёрдо ответил Лоран.
— Понимаю, что по большому счёту вы ничего не придумывали — иначе и быть не может. Но, чтобы вы поняли меня правильно, приведу пример. Возьмем, скажем, речи Перикла у Фукидида или выступления Цезаря у Саллюстия, что это — плод вымысла авторов или передача действительной прямой речи?
— Наукой давно доказано, что античные авторы вкладывали в речи исторических деятелей свои собственные мысли.
— Нет ли и у вас чего-то подобного? Когда вы, например, передаёте длинную речь Буонарроти, не есть ли это ваши собственные мысли?
— Ну, эту-то речь я помню, как мою собственную. В других случаях, конечно, я мог что-то забыть, что-то передать своими словами… Но придуманного по образцу Саллюстия или Фукидида вы не найдёте здесь ничего.
— Благодарю, — поклонился Деласс. — Именно это я и хотел узнать.
— В повести кое-что сглажено, — заявил француз-эмигрант, имени которого Лоран не запомнил. — Выходит, например, будто Бабёф всегда поддерживал и чуть ли не боготворил Марата, а между тем хорошо известно, что было время, когда он и полемизировал с Другом народа, и награждал его весьма нелестными эпитетами.
— Верно, — ответил автор, — такое было… Но всего лишь один раз, когда Бабёф взялся защищать лицо, недостойное этой защиты и впоследствии отвергнутое самим же Бабёфом… Я не счёл нужным вводить в книгу этот эпизод — он ничего не прибавляет именно вследствие своей эпизодичности.
Де Поттер одобрительно кивнул. Поднялся Барер.
— Мог бы и побольше рассказать о первых этапах революции… И о Революционном правительстве II года.
— Не спорю, — сказал Лоран, — сколько ни говори о нашей революции, все будет мало. Но книга-то моя посвящена Бабёфу, а для Бабёфа время II года — всего лишь прелюдия к его главным делам и идеям.
Де Поттер снова сделал одобрительный жест. Однако за всё это время он оказался единственным, не проронившим ни слова.
13
Когда настало утро и все разошлись, Лоран обнял за плечи молчаливого бельгийца.
— Ты-то, друг мой, почему так и не разжал губ? Ведь именно от тебя я надеялся услышать главное.
Де Поттер улыбнулся.
— Главное ты уже услышал. Я ничего не могу добавить. Но меня смущает выражение твоего лица.
На этот раз улыбнулся Лоран.
— Что же нашёл ты в выражении моего лица?
— Это обсуждение тебе вовсе не было нужно: ты уже принял решение, и оно относится к переработке рукописи.
— Действительно, я уже до этого был близок к решению о перестройке повести, но ваши мнения были мне и приятны и полезны: они укрепили меня в задуманном мною.
— Но что же ты задумал, если это не секрет?
— От тебя секретов не имею. А задумал я вот что… — Лоран помолчал, словно собираясь с мыслями. — Видишь ли… То, что написано — написано. Но сейчас я вообще оставлю за рамками будущей книги многое из того, что содержится в рукописи. И придам своему труду иной характер.
— Почему?
— А ты не понимаешь? Не чувствуешь дыхания свежего ветра? Грядёт революция. Она уже не за горами. И у вас, в Бельгии, и у нас, во Франции. Разве ты забыл о «дне баррикад», который прошёл недавно в Париже? Разве не знаешь, что Карл X оказался вынужденным дать портфель первого министра либералу Мартиньяку?
— Знаю я всё это. Но знаю также, что этот «либерал» снова отказал тебе во въездной визе.
— А я и не сомневался, что он откажет. Это был пробный шар с моей стороны — сейчас, из-за книги, моё присутствие в Брюсселе всё равно необходимо… Но уверен: на третий мой запрос отказа не будет. Революция у порога. Так вот, в этой связи я и должен изменить центр тяжести моей рукописи. Сейчас биография Бабёфа не так нужна, как нечто другое, связанное с незабвенным именем Первого среди Равных. А именно — дело, которому он себя отдал. История Заговора во имя Равенства. Суди сам: на пороге новая революция. И кому теперь интересно, что мы ели и пили, кого любили, с кем ссорились и мирились? Нет, теперь, как никогда, люди грядущей революции, подлинные творцы будущего, должны знать его идеи, наши идеи! Эти идеи помогут борцам в их справедливой борьбе. Они облегчат строителям нового братства их благородное дело. И, по существу, именно в этом смысле высказались мои гости.
— Но ведь всё это у тебя в рукописи есть.
— Разумеется. Но есть и много иного. Ты слышал упреки Барера?
— Они несправедливы.
— Но они настораживают. Следует сделать как раз противоположное предложенному Барером. Начальную часть дать много короче, чем у меня, а чисто биографический материал оставить за пределами рукописи. Биография Гракха Бабёфа… Нет, не думай, она не пропадёт. Наступит её час, и она увидит свет. И, может статься, с некоторыми добавлениями, что сделают другие историки. И потомство наше в дни счастливого будущего прочитает повесть о человеке, который жил, страдал, горел и погиб ради других. Ныне же, — не побоюсь повторить, — насущно необходимо рассказать не о жизни, а о деле жизни его. Кстати, ведь я собирался писать именно об этом, только об этом. Но постепенно увлёкся и отвлёкся: жизнь моего друга на всех этапах его деятельности захватила меня в большей мере, чем сама эта деятельность в её последний, определяющий период. А ведь это главное. Нужно подробнее, много подробнее развернуть всю цепь наших идей, все наши планы, все наши действия в борьбе с тиранией Директории. Короче говоря, сегодня необходима другая книга, книга о заговоре Бабёфа. И я должен создать её.
— Ты ведь уже создал её.
— В какой-то мере. Основная работа, конечно же, сделана: источники собраны и проанализированы. Теперь остается расширить, дополнить уже написанное, изменить крен. Иначе говоря, выполнить завещание Гракха Бабёфа, его последнюю волю. Это моя прямая обязанность, мой долг перед убитыми и перед всем человечеством.
Де Поттер в задумчивости перебирал листы рукописи, лежавшей на столе.
— Что ж, быть может, ты и прав, — сказал он наконец. — Но я как-то сразу не могу переварить всё это. Надо ещё думать и думать. А на сегодня довольно. В голове у меня гудит, воображаю, как чувствуешь себя ты — мы ведь проговорили всю ночь… Задёрни-ка шторы, друг мой, и ляг, отдохни. Вечером встретимся и вернёмся к этому разговору…
14
Сказав это, де Поттер поднялся, чтобы уйти. Но почему-то не ушёл, а снова сел в кресло. Они оба молчали, и тишина была какой-то особенной, благоговейной. За окном вставало солнце, и первые лучи его уже начинали проникать в комнату. Они думали о разном; мысли их были далеки от прочитанной рукописи и вместе с тем как бы связаны ею: каждый думал о своем, но книга о Бабёфе и всё, что говорилось в минувшую ночь, ещё теснее сблизили их, и, казалось, уже не было частного, а только общее, ибо этот долгий и трудный экскурс в прошлое неизбежно звал в будущее, а в будущем и мысли, и надежды, и свершения имели нечто общее, что могло и должно было стать дорогим для всех честных людей земли…