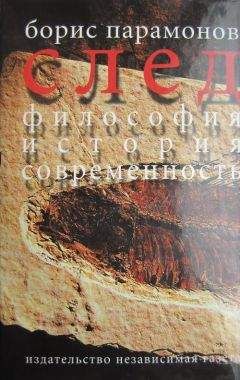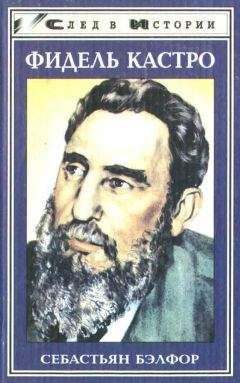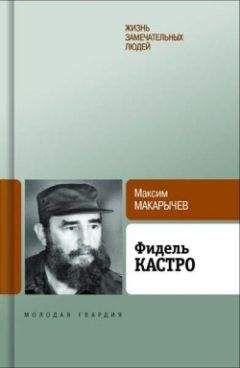Трактовка Покровского не удержалась в советской литературе о декабристах не только по причине дискредитации его школы, но еще и потому, что она, эта трактовка, вошла в противоречие с ленинским понятием «дворянской революционности» и, соответственно, с пониманием декабристов как полноправных представителей оной. Это неудобство начало ощущаться уже довольно рано, когда школа была в полной силе. Однажды Покровский сделал попытку косвенно опровергнуть эту ленинскую формулу, сославшись на речь Плеханова о декабристах: в устах марксиста соответствующая апология, сказал Покровский, допустима и понятна лишь как средство агитации против самодержавия, но не более. Декабристов нельзя считать революционерами как раз в марксистском смысле, утверждал Покровский, — потому именно, что их программы в большинстве своем не предполагали глубокой социальной революции. Покровский говорил о «сильной и яркой политической платформе декабристов» и о «бедной и слабой — платформе социальной», добавляя:
Умеренные социальные реформы и полное, притом насильственное низвержение старого политического строя — вот как вкратце приходится определить программу декабристов39.
Декабристы — это «монархомахи». Из них только Пестель обладал весьма радикальной социальной программой. И Покровский всячески подчеркивал соперничество и даже враждебность Северного и Южного обществ: заговор северян, говорил он, был не столько против Николая I, сколько против Пестеля. «Два заговора ревниво следили друг за другом»40. В гранатовском тексте, а также в 3-м томе собственной «Истории России с древнейших времен» Покровский, под влиянием Ключевского, связал декабризм с традицией дворцовых переворотов. Позднее он несколько скорректировал эту формулу: «В своей офицерской части заговор в лучших образчиках не идет дальше „Народной Воли“, в худших — спускается до дворцовых переворотов XVIII века»41. «Дворянскую революционность», о которой говорил Ленин, Покровский склонен видеть только в этом последнем смысле, — ему, стороннику экономического материализма, к которому он сводил марксизм, вопрос о власти, о ее насильственном, даже заговорщическом захвате, не кажется интегральной частью марксистского подхода к миру. Поэтому он и говорит, что «марксисты порвали с традицией, которая от декабристов вела русскую революцию»42. Такая точка зрения, однако, удержалась недолго.
Для Покровского декабристы не революционеры, а «обиженные самодержавием дворяне». Эту формулу он разрабатывает на примере как раз одного из активнейших декабристов, Каховского. Тот жалуется царю на утеснение прав дворянства: почему офицерам-семеновцам запрещено выходить в отставку? почему не разрешают дворянам заниматься винокурением? держать почтовые станции? Никакого осознанного и в принцип возведенного народолюбия у декабристов не было, говорит Покровский, — эмансипаторский мотив у них есть плод позднейшей стилизации, когда, выжившие в Сибири и освобожденные, некоторые из них начали писать свои мемуары в канун 19 февраля. В гранатовском тексте Покровский даже не склонен считать декабристские социальные проекты «буржуазными» хотя и фиксирует их, так сказать, манчестерский характер: зримая тенденция этих проектов — освобождение крестьян провести так, чтобы усилить их зависимость от дворян-землевладельцев. В связи с этим Покровский особенно нажимает на соответствующие планы Якушкина (которые, кстати, ему не дало осуществить правительство, — история, повторившаяся с грибоедовским проектом), а также на конституционные проекты Никиты Муравьева: в первой их редакции крестьяне освобождались вообще без земли, во второй — наделялись двумя десятинами на двор. Это так называемый «кошачий надел». Покровский напоминает, что вырабатывавшийся тогда же правительственный проект освобождения крестьян — возглавлял этот проект не кто иной, как Аракчеев, — исходил из нормы две десятины на душу. Особенно далеко идущих выводов — в отношении царского правительства — Покровский из этих фактов не делал, но он эти факты и не скрывал, как скрывала либеральная историография и продолжает скрывать советская, по той причине, что они не соответствуют устоявшимся стереотипам самодержавия.
Покровский отрицает как революционность декабристов, так и «буржуазность» их социальных программ в первую очередь потому, что выдвигает на первый план аристократическую тенденцию у них. Типовой, показательный, стандартный декабрист у Покровского — Г. С. Батеньков, говоривший: «сильное вельможество нам свойственно и необходимо». Конституционный проект Батенькова не сохранился, но кое-что о нем известно: он построен все на той же идее «сенатского» ограничения самодержавия, двухпалатный парламент состоит из верхней — палаты вельмож, наследующих этот пост, и нижней, выборной; выбирают в нее от «некоторых городов», от губерний — из сословия землевладельцев, от трех университетов и трех академий. О крестьянах здесь даже и речи нет. Это стиль Русских Рыцарей Мамонова43.
Нечкина, задним числом критиковавшая учителя, писала, что Покровский не сумел оценить принципиальный демократизм декабристских программных документов, в том числе конституции Никиты Муравьева. Это ложь, рассчитанная на студентов сталинских годов, не ходивших дальше официального учебника. Достаточно посмотреть как в самый источник, так и в работы Покровского, чтобы убедиться в правоте именно последнего. Как раз о проекте Н. Муравьева Покровский писал, что слово «народ» списано у него с иностранных конституций, это чисто вербальный лозунг, идеологическое клише; в действительности под народом Н. Муравьев подразумевал цензовые элементы и даже сословно-цензовые, то есть дворянские преимущественно. У Муравьева в выборах бывшие крепостные вообще не участвуют, а свободные крестьяне наделены нормой представительства в 500 раз низшей, чем у самых мелких дворян. О социальной стороне проектов Н. Муравьева мы уже упоминали.
Подлинный революционер, якобинец-монтаньяр среди декабристов для Покровского — Пестель.
Прочитайте, что пишет о Покровском хотя бы Кизеветтер, — и вы ощутите полную растерянность либеральной мысли перед лицом этих не то чтобы неизвестных, но слишком сильных для нее, не усвояемых ею фактов. Скандал Покровский произвел великолепный — в стиле Чарли Чаплина, громящего посудную лавку. Если истина обязана обладать предикатом «горькая», то Покровский сказал истину о декабристах.
Он, например, начал обращать внимание на такие детали, сообщаемые в «Записках» И. И. Горбачевского, члена наиболее демократического по составу декабристского Общества соединенных славян:
Члены Южного общества действовали большею частью в кругу высшего сословия людей; богатство, связи, чины и значительные должности считались как бы необходимым условием вступления в общество; они думали произвести переворот одною военною силою, без участия народа, не открывая даже предварительно тайны своих намерений ни офицерам, ни нижним чинам, из коих первых надеялись увлечь энтузиазмом, а последних — или теми же средствами, или деньгами и угрозами44.
Картина получалась настолько недвусмысленная, что сам же Покровский поспешил назвать ее тенденциозной. Не потому ли, впрочем, что речь здесь идет о Южном обществе, возглавлявшемся любимым им Пестелем?
Еще о «славянах»: в одном месте Покровский говорит, что с этими плебеями декабристы связались только потому, что думали препоручить им грязную работу цареубийства.
Правда подчас обнаруживается нечаянно — на смене господствующего мифа, пока другой еще не сформировался, иногда даже — на смене «начальства»: так, снятие Хрущева не привело к свободе в СССР, но по крайней мере способствовало реабилитации генетики.
Где же сам Покровский начал «врать»? Там, где попытался подвести под декабристов фундамент «экономического материализма».
Дворянскую революционность он выводил из динамики хлебных цен в России в начале XIX века. Схема у него была такая: наполеоновские войны в Европе, а континентальная блокада в особенности привели к резкому росту хлебных цен, что побуждало русских помещиков переходить к интенсификации своих хозяйств. Но этому мешало крепостное право, бывшее тормозом хозяйственного развития, как и положено принудительному труду. Отсюда — эмансипаторские проекты дворян — будущих декабристов, в центре каковых проектов — идея обезземеливания крестьян, превращения их в неимущих батраков и интенсификации тем самым их труда, подъема его производительности. Поскольку самодержавное правительство противилось подобным проектам, постольку росла дворянская революционность, точнее, если придерживаться буквы Покровского, готовность дворян к политическим акциям, нацеленным на ограничение монархии, если не на ее уничтожение.