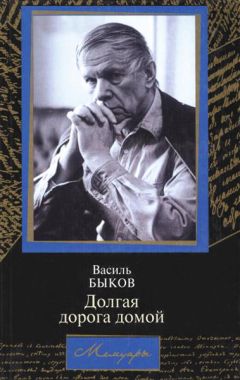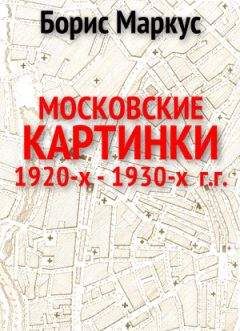Вход в бетонно-казематное здание ЦК охранялся жандармами и собственными стражами в униформе, которые куда-то звонили, нажимали на кнопки, двери-ворота открывались, словно проглатывая меня с моим провожатым. Затем долго шли по коридору, стены которого выглядели так, словно их только что возвели, только-только сняли опалубку. Должно быть, это было в модерново-марксистском стиле архитектурного примитивизма. Зато кабинет секретаря ЦК выглядел довольно уютно. Немолодой уже, смуглый человек с худым и нервным лицом сразу, ни о чем, насколько помнится, меня не спросив, начал монолог, который закончил только к концу приема. Переводчик смог пересказать мне разве что половину, но и из этой половины я мало что понял. Понятна была только одна фраза, которая несколько раз повторялась: «Передайте Михаилу Андреевичу…» Какому Михаилу Андреевичу? Нашему художнику Савицкому? И только в самом конце я понял, что секретарь ЦК ФКП имел в виду своего московского коллегу — товарища Суслова. Но при чем здесь я? Я что, чай с Сусловым пью по утрам?
Прощаясь, темпераментный француз встал и дружески протянул мне руку. Что мне ему сказать? Оревуар? Гуд бай? Ауфидерзеен? И я сказал: «Да пабачэння!» Вряд ли он когда-нибудь слышал эту нашу фразу.
Из ЦК уехали уже с новым гидом-переводчиком, который рассказал нам, что по происхождению он молдавский еврей, много лет был президентом различных фирм, принадлежавших ФКП, зарабатывал для партии деньги. Большие деньги! А теперь он бедняк, пенсия маленькая, большей в компартии не выслужил. Трудовому люду во Франции живется трудно, цены высокие, а зарплата низкая. В магазинах[320] полно товаров, но магазины пустуют: у покупателей нет денег. Я сказал ему, что у нас то же самое, хотя и наоборот: денег у людей густо, зато с товарами пусто. Так что мы с вами в одинаковом положении. Гиду-коммунисту это мое сравнение не очень понравилось.
Гид свозил меня в новый парижский район Деманш — образец модерново-стеклянной архитектуры, показал парламент, знаменитый Дом Инвалидов, где похоронен Наполеон. Побывали и в Булонском лесу, где среди деревьев бродили наркоманы и спали на скамейках клошары. По дороге заехали на Монпарнас, зашли в знаменитый ресторан искусствоведа Льва Доминика, который держал русскую кухню. Хозяин угостил нас настоящей русской водкой в темной бутылке с красной сургучной печаткой на головке. Неподалеку от ресторана сохранилась арка, бывшие городские ворота, медная табличка на них сообщает, что с этого места в 1791 году началась Великая французская революция — после того, как власти запретили доставлять в Париж вино. (А мы привыкли думать, что та революция произошла по другой причине. Как всё же важно докопаться до первоисточников!)
Вечером французская компартия презентовала «московскому гостю» спектакль в знаменитом театре-кабаре «Мулен-Руж». Сидя за маленьким столиком, я с любопытством разглядывал голых красавиц в аквариуме на сцене. Они кувыркались и ныряли, как настоящие русалки. Их игры комментировал с огромного экрана президент Франции Жискар д'Эстен, а японские туристы дружно хлопали в ладоши.
Чуть ли не весь свой последний день в Париже бродил по божественным анфиладам Лувра, пока не закружилась голова и стали подкашиваться ноги. Очевидно, так же, как нельзя слишком напиваться и объедаться даже деликатесами, нельзя за один день проглотить всё то, что наработано культурой не одного столетия. Тем более такой мастеровитой и трудолюбивой бабушкой — европейской культурой. На Лувр не хватит ни дня, ни недели, ни месяца. В нем надо провести годы, может быть, даже жизнь. Но наша жизнь принадлежит другому, к огромному, запоздалому сожалению…[321]
В Латинском квартале еще можно было увидеть следы недавнего молодежного бунта, стычек с полицией, клочья прокламаций на стенах домов. Мотив отчуждения от современного общества звучал в студенческих выступлениях, вдохновленных радикальными лозунгами кумиров молодежи. Режиссер Антониони призывал молодых полностью опустошиться, вытрясти из себя всё старое, чтобы оно не отравляло новое, затеплившееся в их душах. В унисон ему вещал французский коммунист Роже Гароди: нужно с предельной силой выразить неприятие существующего порядка вещей, отчужденность от него, даже, не называя причин. Это представлялось чрезмерно революционным, хотя у того же Гароди были и здравые высказывания, например, против эпического романа, который издавна культивировался в литературе соцреализма. В этом смысле с ним был согласен Твардовский и другие «новомирцы», которые отдавали предпочтение короткой повести.
Впоследствии мне посчастливилось еще не раз побывать в Париже, первоначальная свежесть впечатлений утрачивалась. Но в тот первый раз я был опьянен его дворцами, роскошными бульварами со старыми узловатыми каштанами, узенькими улочками, маленькими кафе на тротуарах. Непринужденность парижан, приветливая улыбчивость женщин очаровывали. Ну а знаменитый Монмартр был укором нам, не уберегшим свою прекрасную старину, хотя не требовалось ни больших денег, ни особых трудов, чтобы ее сохранить. Только немного уважения к себе и своей культуре. Если бы не войны, не революционное одурение, нашими Монмартрами могли бы стать многие наши города с их древней архитектурой (Полоцк, Витебск, Новогрудок), с их церквями и костелами, узенькими улочками, с неповторимыми фасадами зданий. Ну а художников у нас всегда было не меньше, чем в Париже. Правда, мы их не уважали, мы им выкручивали руки, заставляли делать то, чего они не хотели делать. Шагал уехал от нас сюда, в Париж, в эту мекку художников, и мировую славу завоевал здесь, а не у нас. У нас его упорно не признавали, даже в восьмидесятые годы советская власть[322] с помощью официозных художников клеветала на него, потому что он не наш, не коммунист, буржуазный художник, к тому же еврей.
Да, он не наш! Шагал принадлежит Вселенной, к которой, к несчастью, не хотим принадлежать мы. Не прокляты ли мы Богом за нашу глупость?
Невеселые мысли-размышления охватывали меня в небе над Европой, когда я летел домой, и я записал в своем дневнике вещие слова великого француза: «Я продолжаю думать, что в этом мире нет высшего смысла. Но я знаю, что нечто в нем всё же имеет смысл». Альбер Камю…
Ко дню рождения Солженицына я отправил Александру Исаевичу свои поздравления и вскоре получил ответное письмо.
В то время отношения между интеллигенцией и властями продолжали ухудшаться, но Александр Исаевич писал, что всё будет хорошо, что он смотрит в будущее с оптимизмом. Это конечно, обнадеживало.
И действительно, осенью Шведская академия присудила Солженицыну Нобелевскую премию, с чем я и некоторые мои минские друзья его сердечно поздравили. Позже он прислал еще несколько писем.
Выехать на Запад Солженицын не мог, поэтому решено было вручить ему премию в посольстве Швеции в Москве. Лауреат прислал мне приглашение на церемонию вручения. Но власти этого стерпеть не могли и принимали свои дьявольские меры. В печати и на телевидении началась травля Солженицына, его пытались скомпрометировать как писателя и гражданина, ставили под сомнение его фронтовое прошлое, объявили предателем, полицаем, власовцем. Его преследовали по месту жительства, и какое-то время он жил на дачах своих знакомых под Москвой, в гараже Ростроповича, затем укрылся в Москве. За его друзей и знакомых тоже взялись, требуя от них выступлений против «власовца». Газеты печатали письма, подписанные видными представителями[323] интеллигенции, в которых клеймили Солженицына и Сахарова, обращения трудовых коллективов с требованием суровой кары изменникам.
В это время я получил в Гродно открытку из Москвы от какого-то неизвестного мне югослава, который писал, что хочет приехать в Гродно и встретиться со мной по важному делу. Что ж, я уважал югославов и стал ждать. Но накануне его приезда мне позвонили из областного управления КГБ, где я недавно выступал, и сказали, что встречу с гостем лучше всего провести в гостинице. Они закажут номер и всё обеспечат. Мне это совсем не поправилось, я уже знал, какие бывают гости из-за рубежа, и в день приезда югослава ушел из дому, предупредив сына, что если мне позвонят, сказать, что меня нет и не будет. Тем более, что я не обязывался принять гостя лично. Но куда мне самому податься? День был дождливый, на природе не погуляешь. И я поехал за Неман, к Дануте, где и пробыл до вечера. Югослав уехал. А назавтра мне позвонили из КГБ, упрекали, что я их подвел.
Охота на определенных писателей продолжалась, и я уехал в Москву. Там какое-то время обретался у Гриши Куренева. Цековцы и кагэбисты искала меня в Гродно и в Минске, в Москве им было меня не найти. А некоторые москвичи сбегали в то время в другие города. Бакланов, например, больше недели прожил инкогнито в Ленинграде у режиссера Хейфица. Бакланова тоже упорно разыскивали. Чтобы использовать в своих целях и тем запачкать.