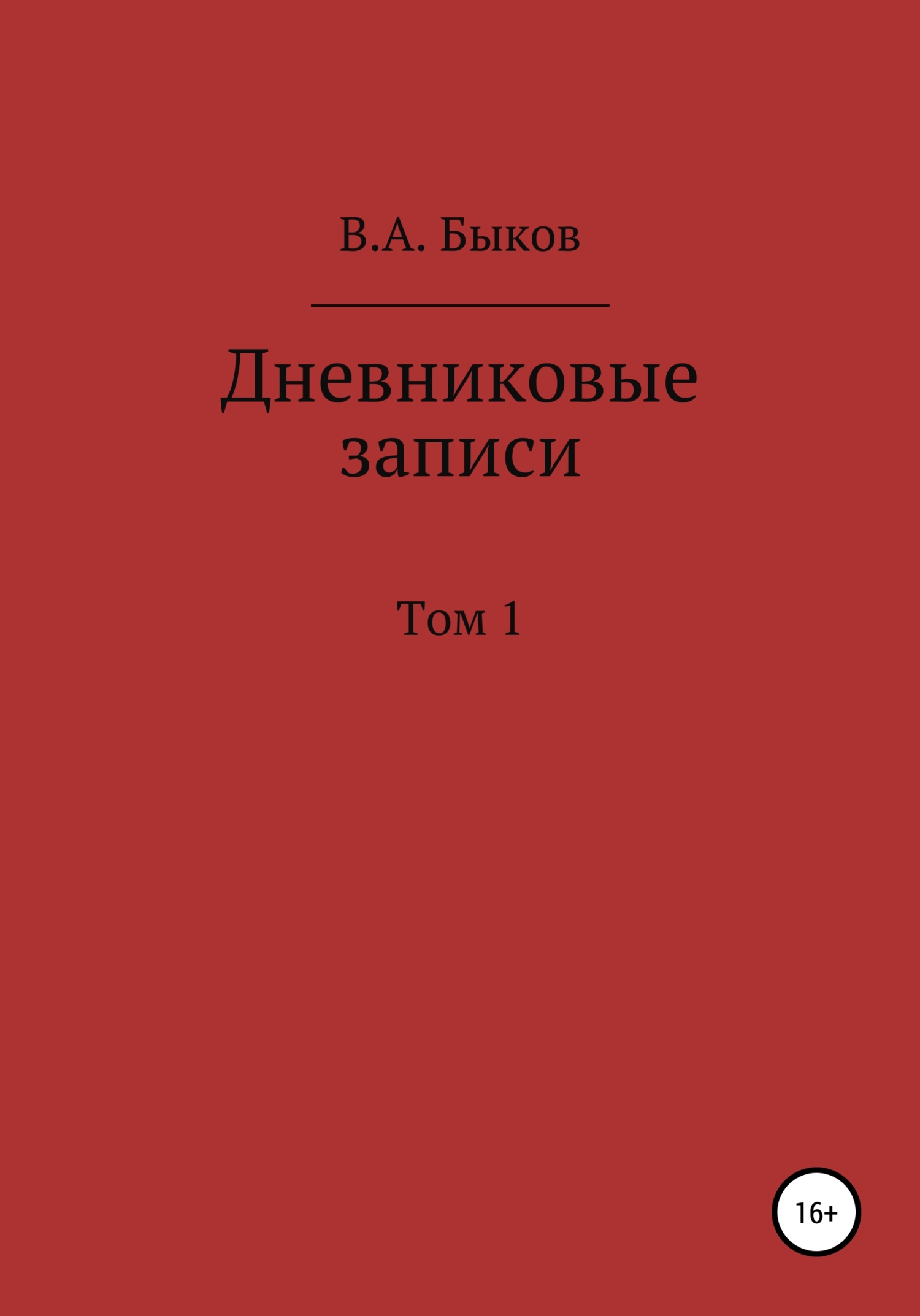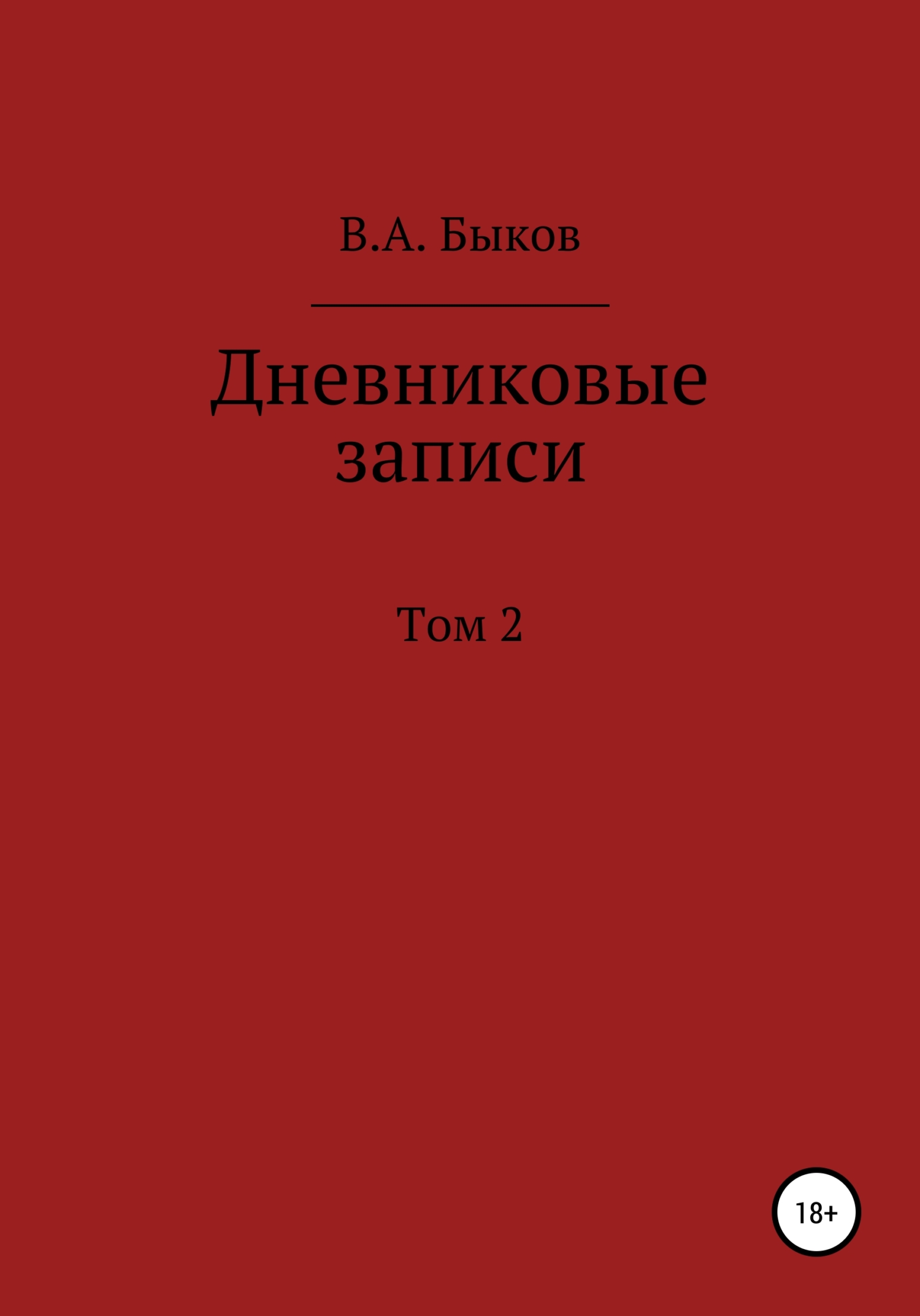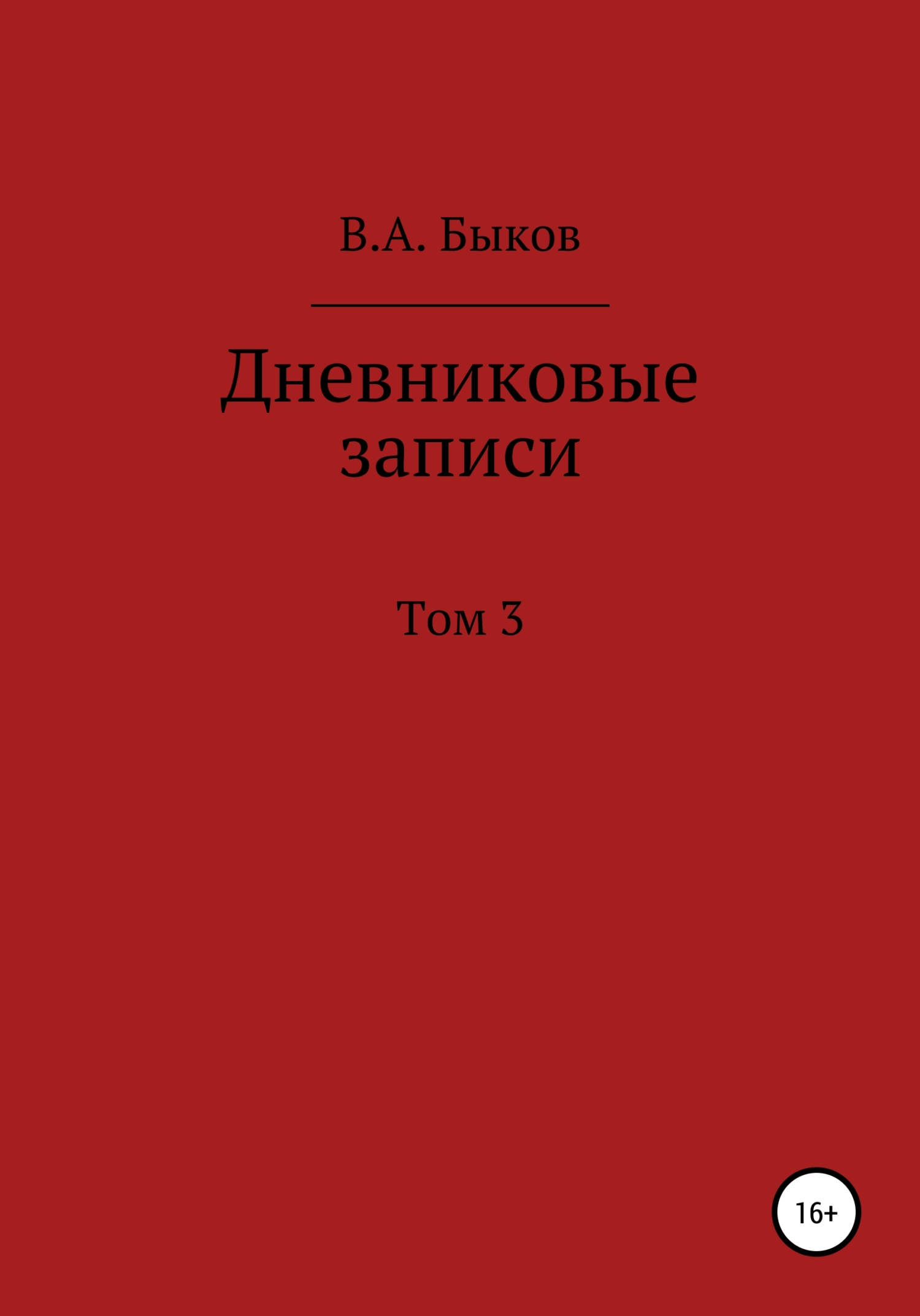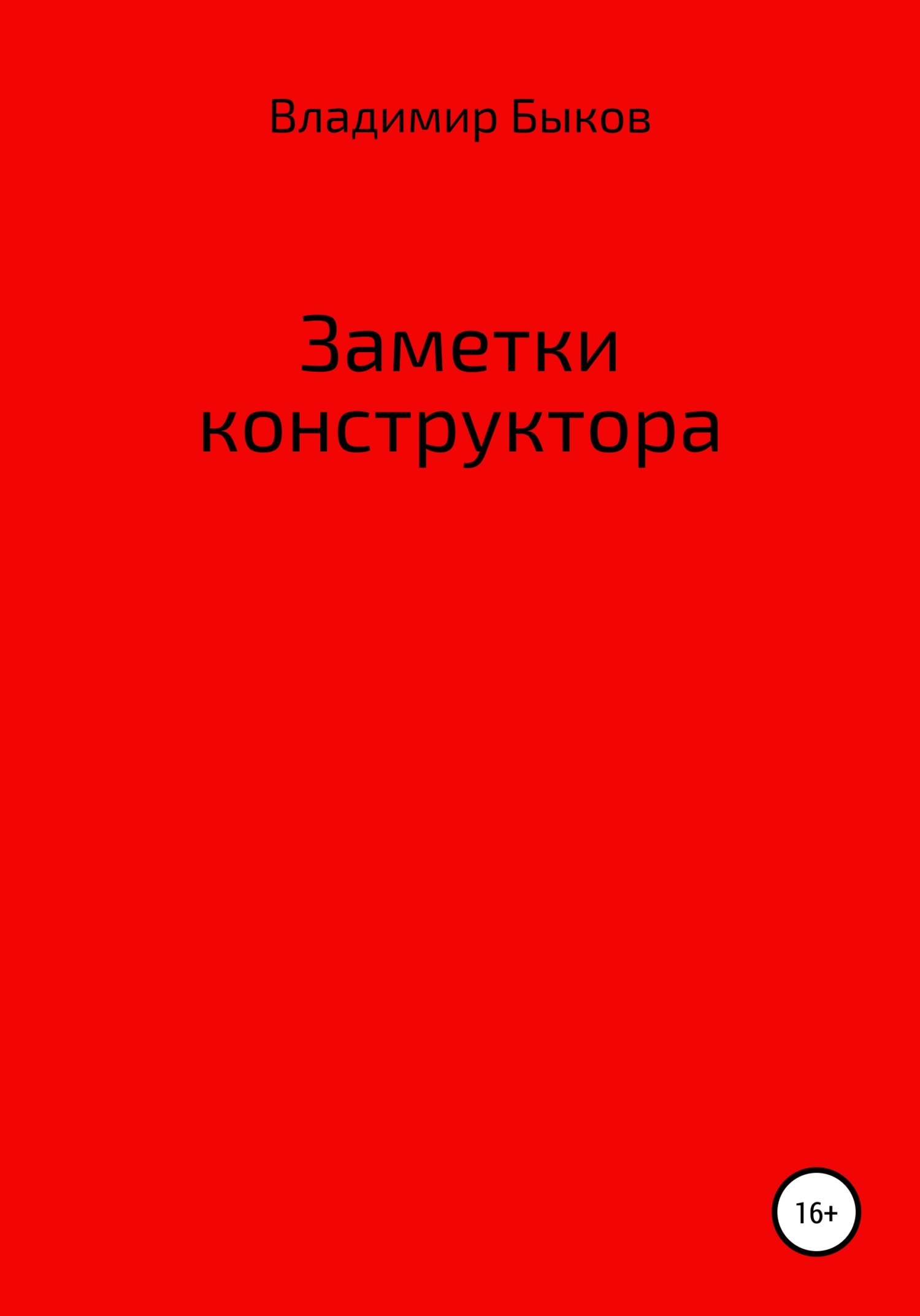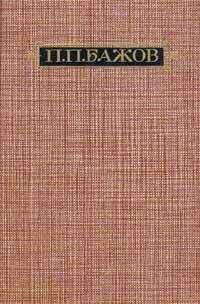точку зрения на все до того мной ему наговоренное. Не могу не оспорить его позицию, или хотя бы не уточнить ее.
В своей книге Нисковских называет Сталина, потрясавшего миром и «заставившего» написать о себе тысячи книг, статей, воспоминаний, «одной из самых одиозных личностей двадцатого века». Считает «в высшей степени аморальным бросать на одну чашу достижения страны, а на другую человеческие судьбы» и, вместе с тем, как бы противореча себе, признает, что «история сохранит все, включая и светлые и мрачные ее стороны». И верно, конечно, его последнее. Когда это нам известная и нас особо занимающая история делалась не «аморальным» образом? И вообще, в части оценки деяний великих людей следует для объективности не забывать известное высказывание Гегеля:
«Всемирная история совершается в более высокой сфере, чем та, к которой приурочена моральность и которую составляет образ мыслей частных лиц, совесть индивидуумов. Нельзя к всемирно-историческим деяниям и к совершающим их лицам предъявлять моральные требования, которые неуместны по отношению к ним. Против них не должны раздаваться скучные жалобы о личных добродетелях, смирении, любви к людям и сострадательности… Великая личность вынуждена растоптать иной невинный цветок, сокрушить многое на своем пути». Или того же Энгельса (тоже весьма неглупого человека, если отбросить его непомерную увлеченность марксизмом), который упоминал о том, что любой исторический процесс сопровождается великими историческими бедствиями.
Добавлю и от себя, что такая личность, как правило, появляется и действует на грани исторических эпох, когда идиотизм предшествующей достигает такого уровня, что он не может быть низвергнут без элементарного насилия. Того самого «суда истории», «суда народа», о которых я уже не раз упоминал.
В утверждениях Нисковских усматривается, кроме того, еще и просто некая тенденциозность. Отмечает он, например, «грандиозные успехи», наличие в стране «эмоционального подъема, способствующего успешному свершению грандиозных планов», но в контексте одного сплошного негатива. Индустриальные объекты строились у нас «за счет продажи зерна и продовольствия за рубеж» и создания в стране «искусственного голода»; «развитие промышленности происходило за счет бесплатного труда миллионов каторжан, многие ученые и конструкторы создавали свои шедевры за решеткой «шарашек» и т. д. А где же, спрашивается, все остальные, что «не сидели», и откуда у них энтузиазм и самозабвенное отношение к созидательному труду и, особенно, как раз в те сталинские годы? Ведь развал-то нашей системы начался уже после Сталина и отнюдь не от того, что было «покончено с крепостным правом на селе», «исчезла дармовая сила» лагерников и некому стало работать. Были к тому более глубокие основания. У меня об этом написано много историчнее и доказательнее. Но откуда такая предвзятость у весьма умного мужика, конструктора и даже аналитика по самому характеру своей профессии?
У нас с Виталием почти одинаковое социальное положение. Мы из преуспевающих крестьян, которые, как он замечает, были не «богатыми и не бедными», но, как мне кажется (естественно, по крестьянским меркам), все же были больше богатыми, о чем можно судить по приводимым нами конкретным фактам из жизни его и моих предков. А вот после революции пути наших отцов несколько разошлись.
Его отец, Максим Касьянович, с которым я был хорошо знаком и который мне был очень симпатичен, в 18-м году попал в белую армию, через два месяца со своим приятелем из нее бежал обратно в родное Баженово, некоторое время скрывался, а затем вступил в красную армию.
Несмотря на свое четырехклассное образование, быстро очаровал молоденькую машинистку Оленьку, окончившую гимназию и прекрасно знавшую французский и немецкий языки, тут же вступил в партию и вскоре был откомандирован в Екатеринбург, где ему предложили перейти на работу в ЧК. Затем Вятка, он уже начальник железнодорожного отдела ГПУ. Снова родной Урал, где он (своевременно) оставляет органы ЧК, но не совсем, поскольку назначается прокурором, и лишь еще через какое-то время переходит на хозяйственную работу. Несколько лет возглавляет в Кыштыме трест «Уралграфиткорунд», в 33-м году назначается директором графитового комбината в Одесской области, очень быстро переезжает в поселок Ульяновка на крупный сахарный завод, а спустя несколько месяцев назначается директором и поселяется в квартире бывшего не то владельцем, не то управляющим этого завода, отца известного Пятакова. Куда девались отцовские предшественники на графитовом комбинате и на сахарном заводе и чем занимался он в органах, Виталий умалчивает, но весьма подробно, с детской непосредственностью и увлеченностью бытоописует тех лет жизнь.
Директорский дом, расположенный на территории завода. Довольно большая и удобная квартира в доме, где кроме них, занимающих весь первый этаж, на втором жили семьи главного бухгалтера и главного химика завода. Примыкавший к дому фруктовый сад. Различная домашняя живность, обслуживанием которой занималась их домработница. Пионерский лагерь, куда его отвозил в повозке, запряженной парой лошадей, кучер Франц. Частые в доме высокопоставленные гости отца. Повар, который приходил к ним и развертывал «бурную деятельность на кухне перед приездом особо важных персон»…
Наступает 37-й год. Отца исключают из партии, снимают с работы. И они всей семьей оказываются в родном и бедном Баженово.
А вот другая история, не написанная, но многократно мне рассказанная Борисом Сомовым. Его отец старый большевик, активный участник послереволюционных событий, но как и отец Виталия, взял себе в жены не простую крестьянку, а поповскую дочь, изумительную женщину. Позднее она стала директором 22-й школы на Уралмаше, и ее любили чуть не все ученики. Одно время мы с Сомовым, когда его родители были уже глубокие пенсионеры (опять отмечу – мне очень симпатичные люди) и почти безвылазно летом жили у себя в учительском саду на окраине Уралмашевского поселка, бывали у них там чуть не каждый воскресный день и одно время строили даже им новый дом. Так вот его отца – секретаря райкома партии – где-то в тридцатые годы исключают из партии, семья переезжает в Свердловск и поселяется (после райкомовской-то жизни) в одну комнатку. Но относительно быстро Сомов восстанавливается обратно в партии и приобретает даже статус старого большевика. Каким образом?
В бытность его секретарской деятельности он познакомился с молодым парнем комсомольцем, которого Борис называл всегда не иначе как Ванькой. Этот Иван Шишлин стал протеже отца Сомова, очень быстро пошел в гору по линии НКВД и во времена «ежовщины» оказался в Свердловске. Занимал ответственный пост, жил в трехкомнатной квартире с паркетными полами и с окнами, выходящими на Дом Красной армии, который мальчик Боря с огромным любопытством рассматривал в ваньковский бинокль. Возможно, не без содействия Шишлина Сомова – отца и восстановили в партии.
Что же здесь удивительного? Да, как