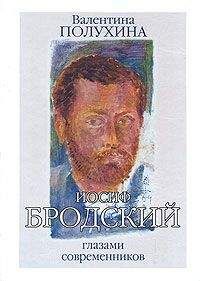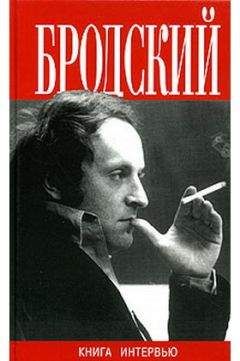В этой стране, если вы поэт, вы можете попасть в печать только двумя способами: если вы поэт-лауреат и если вы избраны профессором поэзии в Оксфорде. Даже приняв во внимание тот факт, что отдельные оксфордские профессора поэзии упорно пытаются зачастую разобраться, в чем же заключаются их обязанности, это две крайне мелкие должности, которые следовало бы упразднить, поскольку они приносят больше вреда, чем пользы, тем, что привлекают тривиальнейшее внимание: маленькое проявление клоунады и мишурной конкурентности непонятно с кем, в сочетании с предположением, что поэзия — это странное маленькое хобби для простачков, предъявляющих свои бесхитростные претензии. Они, причем немногие из них, в буквальном смысле единственное из всего искусства, что реально заметно для широкой публики. Это чрезвычайно трудно для поэзии — столкнуться с авторитарной системой. Если вы представите полную бессмысленность ситуации, в которой писателям, в особенности поэтам, не с кем говорить, кроме как друг с другом, а словоохотливы обычно ремесленники и взаимовосхвалители с кратковременной репутацией, легко понять, как угнетенный писатель, который может быть очень хорошим, как Мандельштам, или гораздо менее хорошим, как Ратушинская, может стать драматической личностью, на которую люди проецируют свои представления о том, каким вообще должен быть писатель. Вы можете сказать, что гибель Мандельштама была ужасна. И вы можете сознавать, что сами не желаете встретить свой конец подобно Мандельштаму. Вы можете также осознавать, что случившееся с Мандельштамом было, насколько я понимаю, вероятно, не имеющим отношения к его действительному поэтическому дару. Это не было путем, соразмерным дару, но стук в дверь, ощущение слежки, подслушивания означают, что поэзия находилась в центре пристального внимания. Сейчас об этом говорит Бродский. Он указывает на то, что жизнь большинства поэтов — это неописуемое постоянное изменение. Это почти то же, что и любая жизнь, и только маленькая частица, сфокусированная на поэзии, или на роли поэта, движется вне частной жизни и становится материалом для других.
Достаточно очевидно, что некоторые писатели — Йейтс, насколько я уверен, вероятно Блок, и конечно же Рильке — расширили поэтическое средоточие своих жизней на любую вероятную сферу вокруг, так что они сами, поэты, стали искусством. Но для нас всегда интересны те, кто находится вне мира, на котором фокусировка происходит силой обстоятельств, если только представить, что личное творчество может быть сжато, уплотнено и энергизировано даже такими ужасающими средствами. В Британии мы относимся к нашим интеллектуалам, художникам, писателям исключительно в зависимости от того положения, которого они добиваются коммерческими средствами. Не существует шкалы полезности для интеллектуалов и писателей самих по себе, только из расчета того, что они делают. Так устроено общество. Это чрезвычайно недейственно, чрезвычайно расточительно, чрезвычайно жестоко и чрезвычайно разрушительно для интеллекта нации, и однажды это нас погубит, дело упорно идет к тому. Но, опять-таки, мы испытываем ностальгию по любой стране, которая обращает на художника внимание, достаточное для того, чтобы поместить в тюрьму, прекрасно при этом сознавая, что мы совершенно счастливы никогда не быть избиваемыми, никогда не быть запрещенными, никогда не быть арестованными. Но мы платим высокой ценой за наше спокойствие.
Вы читали всех русских поэтов в переводах: Ахматову, Мандельштама, Блока и других. Никому из них обычно не везло с английскими переводчиками. Как вы оцениваете переводы Бродского, выполненные другими поэтами или им самим, в сравнении с переводами Ахматовой, Мандельштама или Пастернака?
Я полагаю, он, вероятно, в одной лодке с прочими. Очень странно, действительно, для человека, чья проза столь доступна, что он вполне может оказаться в той же ситуации, что и принимаемый нами на веру Пушкин: едва ли что-либо из его поэзии остается в живых. Я склонен полагать, что есть некая необработанная энергия, или драма личности, особенно если английский переводчик для этого постарался, и тогда вы ощущаете свою сопричастность поэту. Вы прекрасно знаете, что английские переводчики этих поэтов обычно уклоняются от усилий по воспроизведению стихотворного размера, поскольку если вы будете воспроизводить размер по-английски с достаточной точностью, даже не принимая во внимание тот факт, что метры языка, обладающего категорией склонения, совершенно отличны от метров аналитического языка, размер пострадает от возникающих в сознании читателей случайных ассоциаций с комической поэзией, детской поэзией и стихами на случай. Так что стихотворные размеры не вольны выполнять свою работу, поскольку мы слышим в них иную поэзию. Это очень печально, но тут уж ничего не поделаешь. Поэтому переводчики, исходя из моего опыта, склонны следовать за характерными индивидуальными чертами поэта и попытаться их воспроизвести. С Бродским, который, насколько я знаю, работает в другом направлении...
Он не драматизирует себя.
Он не драматизирует себя. Это городская персона. Это ощущение ума и языка, играющих на широкой поверхности. Перевод действительно становится очень, очень трудным, насколько я могу предположить. В придачу к этому присутствует и он сам, он может ввязаться в спор о значимости его метрических форм и о том, что их непременно нужно сохранить. И здесь, я думаю, возникают проблемы. У меня сложилось ощущение, что англичане могут научиться массе вещей, систематически работая над переводами Бродского. Например, если я приму во внимание то, что написано Бродским в прозе, где он наделяет рифму едва ли не метафизическим значением, и потом посмотрю на использование им неточных рифм — этого почти невозможно доказать посредством аргументов, поскольку ответ не является разумным — но есть определенные рифмы, которые английское ухо принимает как обоснованные консонансы, и другие, которые режут ухо сильнее, чем просто отсутствие рифмы; снова и снова, когда мы представляемся себе обучаемыми целой школой поэзии, использовавшей этот уровень нерифмованности или частичной рифмовки, принимать их как консонансы или параллелизмы, а не как разрывы, наши уши бывают смущены, тогда когда он стремится их убедить. Думаю, мы хотим опыта убеждающего, а он, напротив, подрывающий, что придает этой поэзии в английском звучании причудливую и игровую внешность, но мы не можем определить степень ее причудливости.
Тут, я думаю, другая проблема, заключающаяся в том, что английский, как всем известно, богатый, утонченный и очень гибкий язык; по моим соображениям, эта гибкость ему не на пользу, поскольку нормативный английский утратил за последние несколько столетий в значительной степени силу своих согласных. Он очень слаб в согласных. Он беден на рифмы. Писать в рифму по-английски становится совершенно запрещено, поскольку ваш выбор очень ограничен по сравнению, скажем, с немецким или русским. К тому же существует тот факт, что английский язык уже включает в себя огромное количество мертвых метафор. Как и большинство языков, я полагаю. Английский в особенности включает в себя массу мертвых метафор, массу погребенного образного языка, так что очень часто то, чем писатель вынужден заниматься — это последовательно удалить метафору, создать пространство и сделать прозрачной ткань текста. Писать, как я это называю, скупо, так, чтобы между образами оставалось пространство. Я знаю, что, реагируя против переводных версий Бродского, могу быть прочитан с моей собственной крайней позиции необходимого минимума, необходимого пространства для того, чтобы каждый троп висел и светился. В музыке есть такое понятие "заселенность", которое подразумевает, что там уйма коротких нот и пауз. Ткань переводов Бродского, как факта английской поэзии, читается мной как "заселенная". Что-то есть деятельное, что-то суетливое на пути поэзии и это как-то нуждается для меня в согласовании, с тем чтобы форма выглядела лучше. Я не могу поверить, что ткань русского языка, или ткань сознания Бродского, когда он пишет по-английски, столь же "заселена", как текст этих переводов. Там происходят великие вещи, и это не вполне систематизировано с тем, чтобы показать свою внутреннюю форму, тот путь, на котором идеи подвешены как планеты на небе. Я не могу видеть трех- или четырехмерные взаимосвязи этих идей, поскольку вижу очень активную единую оболочку. Так что я все еще не вполне доволен.
Я не знаю, в чем здесь решение. Это целительный и совершенно благородный труд, подобный донкихотовскому, — Бродский, пришедший в английский язык и сражающийся, в сущности, за то, чтобы вывернуть наизнанку его отступление, и принципиально, и в благодарность за полученное от него.
Есть ли у вас стихотворения, адресованные Бродскому, посвященные ему, или тематически близкие?