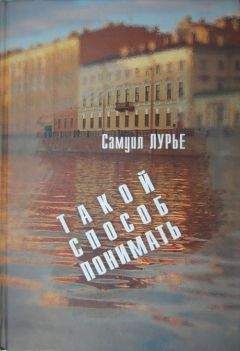Но, как сам же М. М. и написал, отрицая Судьбу, — «жизнь устроена проще, обидней и не для интеллигентов».
Недавно нейрофизиологи установили, что мозг убийцы действует в особом режиме. В США, например, обследовали убийц, которые официально были признаны вменяемыми. Обнаружилось, что функции лобных областей их мозга ослаблены и снижено потребление глюкозы в прифронтальных отделах. Испанские и русские ученые доказали, что в мозгу агрессора — избыток какого-то пептида вазопрессина, зато недостача серотонина… И так далее. Не в названиях дело. Главное — что у людей, склонных к депрессии, — все ровно наоборот. И поэтому что меланхолику полезно — для убийцы травма или яд!
Должно быть, Сталин, читая Зощенко, страдал невыносимо.
ФольклорНа писательском собрании в Смольном после доклада Жданова пошли, как водится, речи негодяев, — а порядочные люди затаились. Как только перешли к голосованию, порядочные бросились к дверям, доставая на ходу папиросы. Но эта испытанная уловка не застала охрану врасплох: никого не выпустили из зала. Порядочным пришлось вернуться на свои места и проголосовать вместе со всеми.
Так рассказывал мне один человек. А другой — что был все-таки голос против: такой Дилакторской, детской писательницы. Она и выступить осмелилась: не могу, сказала, согласиться, что и в рассказах о Ленине Зощенко проявил себя как подонок, пошляк, хулиган. Она вроде бы до войны служила в Детгизе и подписала эту книжку в печать.
Третий, усмехаясь, припомнил, как возвращался той августовской 1946 года ночью из Смольного. А жил на канале Грибоедова, в писательском доме, где и многие другие. Шли гурьбой, ночь была теплая, компания — молодая, — разговорились, расшутились, разыгрались чуть не в пятнашки. Вышли на Конюшенную площадь, повернули к набережной канала — и остановились: вдоль решетки навстречу им шел Зощенко. Франтовской плащ, кожаная кепка, трость. И ясно было, что он уже много часов так ходит взад-вперед, тростью трогая перила. Его-то на собрание не пригласили, что случилось — не намекнули. Вот он и ждал возвращения соседей.
Они, конечно, воспользовались темнотой — безмолвно разбежались по подъездам.
Зато есть легенда, что после того, как Постановление распубликовали в газетах, Зощенко получил по почте от разных неизвестных — сорок хлебных карточек!
Кто знает — все может быть. Цифра немножко слишком круглая.
Философия слогаПятнадцать лет он был поэтом. Владел блаженным искусством лишних слов:
«Вот опять будут упрекать автора за это новое художественное произведение.
Опять, скажут, грубая клевета на человека, отрыв от масс и так далее.
И, дескать, скажут, идейки взяты, безусловно, не так уж особенно крупные.
И герои не горазд такие значительные, как, конечно, хотелось бы. Социальной значимости в них, скажут, чего-то мало заметно. И вообще ихние поступки не вызовут такой, что ли, горячей симпатии со стороны трудящихся масс, которые, дескать, не пойдут безоговорочно за такими персонажами…»
(Прямо урок поэтики: уберите ненужное — и все пропало!)
Он был писатель без иллюзий, работал под девизом из Эпиктета: человек — это душонка, обремененная трупом. Но, в отличие от римского раба, полагал, что за это стоит человека пожалеть — именно за то, что подловат, поскольку глуп, и пошловат, ибо смертен. Так и писал: бедняга человек. И с охотой поступил в гувернеры к Пришедшему Хаму. И смешил дикарей, пресерьезно изображая говорящую обезьяну.
«Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его, средних лет дамочка, Марья Васильевна Блохина, на сороковой день небольшой пикничок устроила.
И меня пригласила. Приходите, говорит, помянуть дорогого покойничка, чем Бог послал».
Всю жизнь обижался на прошедшую словесность: зачем притворялась, будто бывают какие-то там высокие чувства, якобы сильней первичных потребностей?
«Автору кажется, что это совершеннейший вздор, когда многие и даже знаменитые писатели описывают трогательные мучения и переживания отдельных граждан, попавших в беду, или, скажем, не жалея никаких красок, сильными мазками описывают душевное состояние уличной женщины, накручивая на нее черт знает какие психологические тонкости и страдания. Автор думает, что ничего этого по большей части не бывает.
Жизнь устроена гораздо, как бы сказать, проще, лучше и пригодней. И беллетристам от нее мало проку.
…Человек отлично устроен и охотно живет такой жизнью, какой живется».
Мировая война и ее такие же ужасные дочери обучили его этой окопной беспощадной, бесшумной стилистике: ребячество — играть с Пошлостью в прятки, а в жмурки — дурной тон. Крикливую магию подобных игр — изыски какого-нибудь Александра Блока — он передразнивал грубей, чем убогую ерунду всех этих монтеров, управдомов. На каждом шагу отчаянно шпынял, мстительно пародировал, все не мог рассчитаться. Дар достался ему как долг обиды.
«Вот и русский поэт не отстает от пылкого галльского ума. И даже больше. Не только о любви, но даже о влюбленности вот какие мы находим у него удивительные строчки:
О влюбленность, ты строже судьбы,
Повелительней древних законов отцов…
Слаще звуков военной трубы.
Из чего можно заключить, что наш прославленный поэт считал это чувство за нечто высшее на земле, за нечто такое, с чем не могут даже равняться ни строчки уголовных законов, ни приказания отца или, там, матери. Ничего, одним словом, он говорит, не действовало на него в сравнении с этим чувством. Поэт даже что-то такое намекает тут насчет призыва на военную службу — что это ему тоже было как будто нипочем. Вообще что-то тут поэт, видимо, затаил в своем уме. Аллегорически выразился насчет военной трубы и сразу затемнил. Наверно, он в свое время словчился-таки от военной службы…»
(Ай, молодца, клоун! Ай, класс! Так и надо гражданину Блоку. А теперь вместо него попляши на горячих угольках сам-друг с гражданкой Ахматовой, спиной к спине, — вот вам на старость и вечность железный двойной ошейник, забавный в школьном учебнике выйдет параграф, — так сказать, во вкусе Достоевского: и скверный анекдот, и вечный муж, — поделом и ей… Адски ловкая, между прочим, комбинация.)
Михаил Зощенко — вероятно, единственный из всех писателей — не верил в трагизм (и упразднил его в бессмертной повести «Мишель Синягин») и не боялся на свете ничего — кроме приступов страха.
Но Джугашвили его разгадал — храбреца, гордеца, дворянчика, офицера: обругать, как собаку, ни за что, на всю страну — моментально сломается и навсегда. Тем более что товарищи по перу не останутся в стороне — прогонят из литературы в толчки. Клоун, кажется, любил поголодать? Вот и пусть поголодает.
«Эта отрубленная голова была торжественно поставлена на стол. И жена Марка Антония, эта бешеная и преступная бабенка, проткнула язык Цицерона булавкой, говоря: „Пусть он теперь поговорит“».
Бродит по Сестрорецкому кладбищу раздраженная тень, трогает тростью прутья ограды.
2000
КТО БЫЛ ОН И КТО БЫЛА ОНА[11]
Чужие письма, совершенно как печаль минувших дней, воздействуют на человека с силой, пропорциональной квадрату расстояния. Так что книги вроде этой живут долго.
Ни в каких предисловиях она не нуждается — но это сейчас.
А лет, скажем, через двести понадобится — чтобы войти в обветшалый том, — ключ не ключ, хотя бы лампочка на лестничной площадке.
Конечно, внутри есть примечания — там все необходимое сказано. А вдруг потомок окажется ленив и нелюбопытен, капризный верхогляд?
На этот случай прикрепим к дверям табличку — кто такие были эти Чуковские, отец и дочь.
Отец — автор «Мойдодыра», «Мухи-Цокотухи», еще полудюжины самых известных в двадцатом столетии русских стихотворений. В них содержится редчайший элемент — вдохновение невинного веселья. Несколько минут на целый век, — но этой неразменной дозой облучен в раннем детстве практически каждый из нас, так называемых советских людей; надо думать, это как-то сказалось на образе жизни.
Дочь — автор «Софьи Петровны» — повести об этом самом образе жизни: о том, как технология скотобойни втесняется в мораль мыслящего сырья. Повесть написана в 1939-м в Ленинграде — не антиутопия, но фотография с натуры, — не просто с риском для жизни, а с отвагой самоубийцы; что «Софья Петровна» не погубила Лидию Корнеевну и не погибла сама — что Лидия Корнеевна даже дожила до триумфа «Софьи Петровны» (1988) — парадоксальный сюжетный ход Провидения; впрочем, я полагаю, необходимый. Наверное, нельзя было бросать на произвол истории такой важный текст. Ведь без него Большой Террор — не урок человечеству, а и в самом деле только сказка, рассказанная кретином с шумом и яростью.