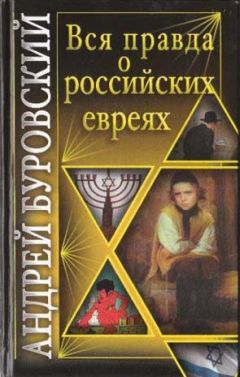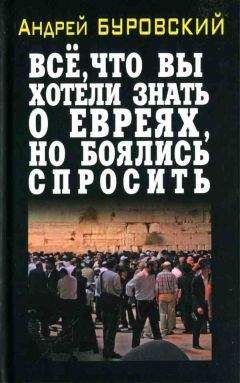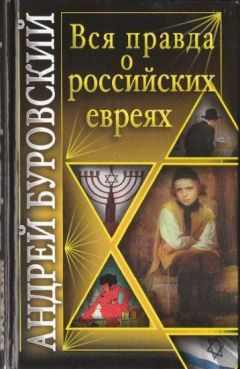Какой-то особый цинизм разъедает души этих людей, беспощадно выброшенных из одной культуры и никогда не приставших к другой. Они — нигде. Они — никто. И они охотно делают никем всех остальных. Действительно, почему это другие должны иметь то, чего лишены эти бедняги? И кто сказал, что нельзя пытать и убивать, чтобы сделать несчастными как можно больше людей?! То есть говорили, конечно, — и «ржавые» евреи, и «ржавые» русские… И вообще много всяких «ржавых» людей по всему миру. Но они ведь уже «ржавых»-то не слушают.
Эти теоретики беспочвенности, враги всякого естественного порядка вещей действительно не любят Россию. Ненавидят ли? Не уверен; думаю, что «ненавидят» — сильно сказано. Но все, что происходит в России, им действительно глубоко несимпатично. Какие-то дурацкие луга и поля, никчемные дороги, ведущие в паршивые деревушки, полные (как выражался Карл Маркс) «идиотизма деревенской жизни». Дураки-мужики с идиотскими бородами, кретины-офицеры с маразматическим кодексом дурацкой чести, их дебильные невесты с омерзительными фигурами (особенно омерзительными из-за их недоступности) и отсталыми взглядами на верность женихам. Ублюдочные дома, где пахнет не дерьмом и разложением, а корешками книг, кофе и вкусным обедом… Все это вызывает у них отвращение и раздражение, а порой и тяжелую злобу.
Их легко ославить русофобами, но вдумаемся…
Во-первых, те же самые чувства они совсем недавно испытывали и к еврейской жизни. Почти физиологическое отвращение, которое сквозит во многих стихах Багрицкого: по поводу старых евреев, пархатого предка с бородой квадратной, еврейской девушки — «шеи лошадиной поворот»…
Во-вторых, а где на земле Багрицкому и компании ему подобных могло бы сделаться хорошо? В Америке? В Новой Гвинее? Вряд ли… Скорее можно предположить, что и в Новой Гвинее (допустим) мгновенно нашлись бы самые серьезные недостатки. А что?! Омерзительная, никому не нужная жара, идиотские пальмы на берегу дурацкого моря, в котором плавают только идиоты и акулы-людоеды, шизофренические обычаи дураков, придумавших себе всякую чушь, разных там идиотских божков, идиотизм сбора ямса и кретинство поедания бананов.
В мире вечных подростков
У Багрицкого, Антокольского, Алтаузена и прочих всю жизнь не были решены самые элементарные, самые базовые проблемы, которые вообще-то должны быть решены годам к 20-ти… ну, к 25-ти, самое позднее. Эти люди продолжают мучиться от неразделенной любви, разбивать носы «врагам» — таким же великовозрастным соплякам, так же не ведают мира, в котором живут, только готовятся жить, словно им от силы лет 16–17.
Самое очевидное следствие этого — некоторый инфантилизм. Тот самый «юношеский максимализм», прущий из мужиков и в 30, и в 40 лет.
Менее очевидное, но не менее естественное следствие: они тратят невероятно много энергии на то, чтобы переделать мир по своему образу и подобию.
Действительно, откуда у нас она, эта самая энергия? Энергия приходит к нам из космоса, от Солнца и других звезд. На земле она превращается в свои земные виды, накапливается в растениях, в телах животных. Мы с кашей и бутербродом поглощаем лучи, пришедшие к нам от солнышка, а частично — из таких безмерных глубин, что их и представить себе трудно. Человек — не только земной, он и космический феномен.
Получив энергию, мы и расходуем ее… Вопрос, на что именно мы ее стремимся израсходовать.
Чем человек благополучнее, тем больше у него возможностей заниматься чем-то основательным, серьезным, в духе нормальной человеческой натуры. Если он вырос в добром мире родителей, не вызывавших ассоциации с «ржавчиной»… если на его любовь в надлежащие годы ответила хорошая девушка (вовремя вычесавшая вшей и помывшая рот после селедки), у него не так уж велика необходимость самоутверждаться. Маловероятно, чтобы он начал переделывать сей скорбный, но в общем неплохо организованный и добрый к человеку мир.
У такого юноши хватит времени и на то, чтобы поучиться чему-то, а потом с удовольствием поработать. В любом случае получится, скорее всего, неплохо. Если Бог одарил талантами (как вот Багрицкого), из юноши может выйти и весьма выдающаяся личность. Остатки же энергии благополучный человек охотно израсходует на шахматы и преферанс, флирт или туристский поход. Но израсходовать энергию на мордобой или запойное пьянство ему, скорее всего, не захочется. И энергии «лишней» не так много, и цели в жизни у него другие.
Но что делать человеку, если мир для него — не добрый и не разумный? Если он — сточная канава и помойка, если жить в этом мире для него тяжело и плохо? Если воспоминания детства бесят, юность вызывает отвращение, а то, во что ты образовался, по меньшей степени раздражает? Остается переделывать мир, создать из мира что-то хотя бы относительно приемлемое. Потому что в реальном мире ему нет места, мир его не принимает. У любого, даже самого отверженного, есть свое место и свое дело в мироздании. У любого — но не у него.
Слабый человек в таком положении запьет или, того еще лучше, перережет себе вены. Сильный скорее попытается найти себе место в мире… или переделать мир так, чтобы ему было в нем место.
Ведь русская интеллигенция всегда именно что переделывала мир! Добиваться индивидуального успеха называлось у нее «жить для себя» — что было низко и презренно. В самом лучшем случае интеллигент полагал свой частный успех — частью группового успеха. Например, занять тепленькое местечко в системе управления тем миром, который построили «мы все» для будущего счастья всего человечества.
Еврейская интеллигенция научилась и приумножила. И нечего учить всяким гадостям…
У человека, особенно в молодости, очень много энергии. Природа дала нам колоссальный запас прочности. Слой людей, о которых я говорю, — это невероятно активный слой, прямо-таки бурно стремящийся изменить окружающую жизнь. Ко времени Первой мировой войны в Российской империи скапливаются сотни тысяч, если не миллионы молодых людей, сами толком не знающих, кто они, чем бы они хотели заниматься и куда им жизни деть свои. Очень многие из них полагают к тому же, что мир устроен совершенно безобразно и только партия «своих» выведет его из тупика.
Это слой вовсе не «чисто еврейский», но евреев в нем невероятно много. Причина понятна: в конце XIX и начале XX века на еврейскую Россию обрушился удар страшной силы, выбил почву из-под ног огромного количества людей. В том числе у людей, совсем неплохих по своим личным качествам и способных сделать много при другом жизненном раскладе.
Багрицкий, Антокольский или Коган — лишь знамена этого слоя людей. Это те, кто смогли заговорить от имени своего поколения и своего общественного класса. Абсолютное большинство этих беспочвенных людей не пишут книг и стихов (некоторые и вообще плохо умеют писать). Но они думают, а самое главное — чувствуют так же. Эти люди готовы потратить невероятно много энергии на разрушение существующего мира. Многие из них готовы и строить… но ведь они толком сами не знают — чего бы им хотелось построить.
Этим людям (как и всем остальным) жизненно необходима гармония, стабильность, порядок. Сочетание требовательности и жесткости с доброй заботой и любовью. Все это есть и в иудейской, и в русской культурах, хотя и в разных формах. Но у них-то, у них нет и ни той, и ни другой. Они не иудеи и не христиане. И не русские, и не евреи.
Психологический этюд
Естественный вопрос — а что думали те, кто организовывал и проводил в жизнь обрушившийся на страну кошмар? Отвечаю: им было очень весело. «Всем хорошим в своей жизни я обязана революции!» — экспрессивно восклицает Евгения Гинзбург, — уже не восторженной девицей, а почтенной матроной, мамой двух взрослых сыновей. «Ох, как нам тогда было хорошо! Как нам было весело!»
КОГДА было до такой степени весело неуважаемой Евгении Семеновне? В 1918–1919 годах, вот когда. Как раз когда работала на полную катушку киевская ЧК — та самая, описанное Шульгиным. Работала так, что пришлось проделать специальный сток для крови. Когда после бегства красной сволочи из Киева нескольких женщин обыватели убили — спутали с чекисткой Розой Розенблюм, прославленной чудовищной жестокостью.
Кое-какие не особенно веселые сцены проскальзывают и у Надежды Мандельштам: грузовики, полные трупов; человек, которого волокут на расстрел; но особенно впечатляет момент, когда юный художник Эпштейн лепит бюст еще более юной Надежды и мимоходом показывает ей с балкона сцену — седого как лунь мужчину ведут на казнь. Каждый день водят, а не расстреливают, только имитируют расстрел, и это ему такое наказание — потому что он бывший полицмейстер и был жесток с революционерами.[362] Он еще не стар, этот обреченный полицмейстер, он поседел от пыток.
Но саму Н. Мандельштам и ее «табунка» (из названных фамилий членов табунка — все до единой еврейские) все это волновало очень мало. В «карнавальном» (цитирую: «в карнавальном») Киеве 1918 года эти развращенные пацаны «врывались в чужие квартиры, распахивая окна и балконные двери… крепко привязывали свое декоративное произведение (наглядную агитацию к демонстрации — плакаты, портреты Ленина и Троцкого, красные тряпки и прочую гадость. — A. Б.) к балконной решетке»… «Мы орали, а не говорили, и очень гордились, что иногда нам выдают ночные пропуска и мы ходим по улицам в запретные часы».[363] Словом — и этим… (эпитет пусть вставит сам читатель) было очень, очень весело в заваленном трупами, изнасилованном городе. Весело за счет того, что можно было «орать, а не говорить», терроризировать нормальных людей и как бы участвовать в чем-то грандиозном — в «переустройстве мира».