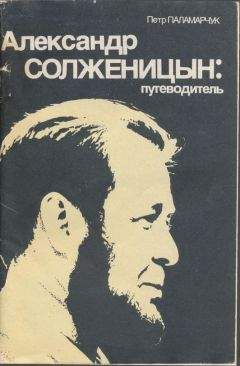Проблеск надежды впервые появляется, как это ни удивительно, в начале третьего тома, в истории «особых» политических лагерей (часть 5 «Каторга»). Объяснить такое можно лишь тем, что книга Солженицына являет собою образец реализма в исконном, средневеково–платоновском смысле понятия, утверждавшего верховенство высокого духа над косной материей. Попадающие на Архипелаг после войны вдруг начинают явственно ощущать воздух свободы — не внешней, до которой путь крайне далёк, но неотъемлемой и победительной внутренней воли. Провозвестником её служит безмолвная русская старуха, встреченная писателем на тихой станции Торбеево, когда их вагон–зак ненадолго замер у перрона: «Крестьянка старая остановилась против нашего окна со спущенною рамой и через решётку окна и через внутреннюю решётку долго, неподвижно смотрела на нас, тесно сжатых на верхней полке. Она смотрела тем извечным взглядом, каким на «несчастненьких» всегда смотрел наш народ. По щекам её стекали редкие слезы. Так стояла корявая, и так смотрела, будто сын её лежал промеж нас. «Нельзя смотреть, мамаша», — негрубо сказал ей конвоир. Она даже головой не повела. А рядом с ней стояла девочка лет десяти с белыми ленточками в косичках. Та смотрела очень строго, даже скорбно не по летам, широко–широко открыв и не мигая глазёнками. Так смотрела, что, думаю, засняла нас навек. Поезд мягко тронулся — старуха подняла чёрные персты и истово, неторопливо перекрестила нас» (VII, 41–42).
Внутреннее освобождение влечёт за собою и внешнее. Сперва в лагере отбирают власть у блатных, фронтовые офицеры возглавляют отчаянные попытки бежать; приходит «рубиловка» для предателей–стукачей. Наконец, восстаёт весь лагерь— начиная от забастовки, как в Экибастузе в 1952 году, в которой довелось участвовать и самому писателю (из её наибольшего разгара его забрали в больницу делать первую, ещё лагерную операцию раковой опухоли), и заканчивая полным восстанием в 1954 году, уже после Сталина, в Кенгире (главы «Когда в зоне пылает земля», «Цепи рвём на ощупь», «Сорок дней Кенгира», оканчивающие пятую часть книги).
Часть 6–я, «Ссылка», посвящена скорбной повести об этом своего рода девятом вале репрессий; наиболее впечатляющие в ней главы о коллективизации — «Мужичья дума» и «Ссылка народов». Седьмая часть — «Сталина нет» рассказывает о недолгом последиктаторском «потеплении» и вновь наступивших слякотных брежневских холодах.
Здесь следует особо сказать ещё и о двух сквозных темах всего трехтомника — одной, с точки зрения составителя «Путеводителя», великой, другой, скорее, преувеличенной. Первая — это отношение Солженицына к коммунизму. Слово это, означающее в переводе с латыни «общежитие», по–гречески звучит как «киновйя». На добровольном духовном единстве и самоотречении в жизни и житии были основаны ещё первые христианские монастыри, именно «киновиями» — общежительными— и называвшиеся. На это не раз указывал отечественный философ священник Павел Флоренский (краткой его биографией заканчивается 2–й том «Архипелага»). Он получил огромный опыт как здорового воплощения идеи, так и больного, «ракового» — окончил свои дни в 1937 году с формулировкой «десять лет без права переписки». Погубив его телесно, «вторая» система невольно сделала одновременно в координатах «первой» святым мучеником.
Идея насильственно навязанного равенства всех по нижнему пределу древняя как мир — её исследованию посвящена книга соратника Солженицына по сборнику статей «Из‑под глыб» члена–корреспондента Академии наук И. Р. Шафаревича, вышедшая в 1977 году с предисловием писателя в Париже.
Наконец, появившийся впервые, по Солженицыну, в XX веке тоталитаризм попытался провести её в жизнь с «пассионарной», пользуясь определением Льва Гумилёва, а по–русски говоря, «одержимой» ревностью. Наглядный пример такого сумасшедшего рвения к уравнению представляет собой коллективизация (не забудем, что «коллектив» — третий синоним «коммуны» и «киновии»). Проводников такого общинобесия точнее всего было бы назвать появившимся не так давно в нашем языке словом «коммуноиды» — оно удачно соединяет в себе идеальное начало с параноидальным окончанием.
Объяснившись со смыслом определений, выскажем теперь общее заключение: судьба, дар и прилежание сделали Солженицына смертельным и опаснейшим противником подобного рода «коммуноидности», а книга его «Архипелаг ГУЛАГ», по веским суждениям многих проницательных людей, явилась осиновым колом в могилу этого насосавшегося народной крови упыря.
…Другая идея свойства гораздо более частного, однако старанием определённого, неизменно озабоченного возбуждением её круга лиц сделалась весьма навязчивой. Во втором томе «Архипелага» были приведены фотографии создателей каторжного Беломорканала, а вместе с тем и всей системы ГУЛАГа: Г. Г. Ягоды, Н. А. Френкеля, Я. Д. Раппопорта, М. Д. Бермана, Л. И. Когана, С. Фирина, С. Жука. Тотчас же не замедлил появлением «национальный вопрос», на который писатель ответил с достоинством и спокойно: «Я просто привёл всех, кто руководил в те годы всем ГУЛАГом и Беломорканалом, производством работ. Не моя вина, что они оказались евреи. Здесь нет никакой искусственной подборки моей, так показала история. В своём споре с коммунистической властью я всякий раз им отвечал: не тогда надо стыдиться преступлений, когда о них пишут, а — когда их делают, и дело историка привести то, как оно было… Дело каждого человека рассказывать о своей вине, и дело каждой нации рассказывать о своём участии в грехах. И поэтому если здесь было повышенное участие евреев, то я думаю, что сами евреи напишут об этом и правильно сделают» (X, 181).
В этой связи можно также вспомнить главы 71 и 73 из «Круга первого», где засасываемый в кампанию по борьбе с космополитами инженер–эмгебист Ройтман вдруг вспоминает, что «ведь в революцию и ещё долго после неё слово «еврей» было куда благонадежнее, чем «русский». Русского ещё проверяли дальше.. Еврея не надо было проверять: евреи все были за революцию». Ему приходит на память и то, как он в пионерском детстве участвовал в общешкольном суде над одноклассником, обвиняемым в «антисемитизме» за посещение церкви. В свой черёд заключённый Лев Рубин припоминает, что, «заглаживая вину перед комсомолом и спеша доказать свою полезность», он — бывший «уклонист» — «с маузером на боку поехал коллективизировать село». — «С кого начинать исправлять мир? С других? Или с себя?» — поздновато задумывается Ройтман. А невольный философ Рубин догадывается за них обоих уже в заключении: «Раны тебе — за это! Тюрьма тебе — за это! Болезни тебе — за это!»
(Желающие ещё больше углубиться в эту достаточно узкую по сравнению с прочими российскими бедами тему благоволят обратиться к диалогу между Д. Штурман и А. Каценеленбойгеном «Спор о Солженицыне» в еврейском русскоязычном журнале «Время и мы». 1988. № 100, изд. в Леонии, Нью–Джерси, глава 3–я — «Солженицын и евреи».)
В отличие от вселенской безнадёжности Шаламова, Солженицыным на всем пути через адские пропасти Архипелага движет надежда на воскресение. Ещё в первом томе, слушая обсуждение «Ивана Денисовича» в Верховном суде, он мысленно восклицает: «Я сижу и думаю: если первая крохотная капля правды разорвалась как психологическая бомба — что же будет в нашей стране, когда Правда обрушится водопадами?
А — обрушится, ведь не миновать» (V, 291).
Именно этот свой труд он хочет увидеть первым в числе вновь издаваемых на родине, обоснованно утверждая: «Если бы «Архипелаг ГУЛАГ» был напечатан в Советском Союзе, совершенно открытым тиражом и в неограниченном количестве, — я всегда считал, что Советский Союз бы изменился. Потому что после этой книги… жизнь не может продолжаться так же» (X, 486).
Ещё совсем недавно трудно было поверить в осуществимость этого предсказания. Но разве не выглядело невероятным и такое уже сбывшееся пророчество из третьего тома «Архипелага»: «Скоро, скоро наступит в России эра гласности!» (VII, 500)
…Автор как бы «пронизал» своею подлинной историей все другие жизненные повести своей книги. И здесь составитель «Путеводителя» единственный раз позволяет себе высказаться о его герое в первом лице. Нарушая покой поколений литературоведов, он берет на себя смелость утверждать, что, по его личному мнению, «Архипелаг ГУЛАГ» представляет собой величайшее, первое произведение отечественной художественной словесности. Потому что никогда более в нашей истории не происходило другой такой трагедии. И воплощения опыта народного горя через одного человека, сумевшего собрать и свести все его нити воедино, тоже. А «художественность» — она ведь не в придуманных «Иванах Ивановичах», которых ещё зрелый Толстой совестился сочинять; корень её — в глубине дыхания, размахе видения и высоте веры и любви. Только они и могли решить, казалось бы, непосильную задачу преображения моря живого фактического материала в могучий художественный эпос без единого вымышленного лица.