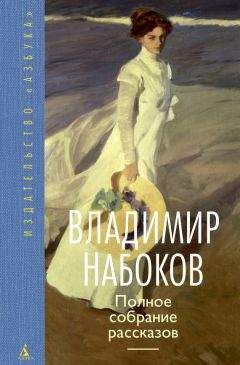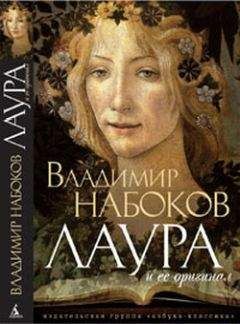В целом разделяя и одобряя разоблачительный пафос (подобные атаки помогают освободить от произвола авторских комментариев и объяснений неисчерпаемое смысловое богатство художественных произведений Набокова), я все же хочу отвести от писателя огульные обвинения в беспросветной неискренности и позерстве. Если допускать, что даже самых отталкивающих и комично-нелепых персонажей Набоков одаривал сокровищами сокровенных мыслей, желаний и впечатлений, то невозможно представить, будто он совсем обделил ими того колоритного персонажа, которого изображал во время интервью. Как и всякий настоящий художник, Набоков был искренен в своем лицедействе; он верил (хотел верить!) в «нас возвышающий обман» и «вдохновенную ложь» собственного мифа, так что даже в откровенно эпатажных декларациях и самых что ни на есть уклончиво-скользких ответах чувствуется внутренний пульс его бытия.
К тому же далеко не всегда писатель лукавил. Он действительно ненавидел насилие и деспотизм тоталитарных режимов; он никогда не был сторонником авангарда с его крикливым культом автоматической новизны, нигилистического разрушения традиции и «рассеянья смысла»; ему и впрямь претил самодовольный редукционизм «венского шамана» и его эпигонов, превращающих фантастически сложные и прихотливые узоры литературных шедевров в убогие схемы.
Что же касается программных эстетических деклараций и комментариев к собственным текстам — конечно, они не исчерпывают всего смыслового многообразия набоковских творений, конечно же, к ним стоит подходить критически (а порой и скептически), но все же их нельзя не учитывать при осмыслении творчества Владимира Набокова, тем более — «позднего» Набокова, сделавшего все возможное, чтобы максимально соответствовать разработанной концепции искусства и слиться со своим «сублимированным» идеальным двойником.
В конце концов стилизованная литературная личность Владимира Набокова, возникающая на страницах предисловий, эссе и интервью, — не менее интересное и художественно совершенное творение, чем его прославленные романы и рассказы. В нем искусно сплавлены бесхитростная правда и утонченный обман, исповедальная открытость и лукавое притворство; эфемерность фактов уравновешивается непреложностью мифов, а редкие блестки личных признаний почти неразличимы на фоне пышного фейерверка мистификаций и нарочитого эпатажа.
Вечно ускользающий Протей, «мираж, ходячий фокус, обман всех пяти чувств» — таким предстает перед нами Владимир Набоков, человек, чья «истинная жизнь» была неразрешимой загадкой даже для близко знавших его людей.
«Он любит говорить вам неправду и заставить вас в эту неправду поверить, но еще больше он любит, сказав вам правду, сделать так, чтобы выдумали, будто он лжет»{53}, — обиженно жаловался Эдмунд Уилсон, общавшийся с Набоковым не один год, но так и не сумевший раскусить его до конца.
Уверен, это не удалось бы и любому другому следопыту, вздумай он разгадать тайну «В. Н.» и запечатлеть его цельный и законченный облик. Боюсь, такому смельчаку придется нелегко. Он должен будет преодолеть тысячу соблазнов, которыми его станет искушать демон поспешных и однозначных ответов, а в конце концов ему откроется перспектива умножающихся до бесконечности отражений или же круговерть калейдоскопически сменяющих друг друга личин, одна из которых лишь на мгновенье покажется истинным лицом великого мага и мистификатора, открывшего нам новые миры, но все сделавшего, чтобы скрыть от посторонних глаз вселенную своего «я», оставившего нас обреченно биться над неразрешимым вопросом.
Кто он, этот хитроумный Протей? Фокусник от литературы, ошеломляющий читателя каскадом изысканных словесных трюков и сюжетных головоломок, или философ-метафизик, пытающийся высмотреть «луч личного среди безличной тьмы по обе стороны жизни»? Язвительный сатирик, безжалостный препаратор человеческих пороков и слабостей, по-флоберовски бесстрастно подходящий к людям как к «мастодонтам и крокодилам» (и заспиртовывающий в своих книгах целые армии самодовольных пошляков и тупиц), или же тонкий лирик, воспевающий земную красоту, счастье любви и творчества? «Одинокий король», ищущий уединения и гордо презирающий почести и литературную славу, или же тщеславный ревнивец, досадующий на ее отсутствие, обрушивающий бурный ливень цианистой критики на литературных недругов и соперников, постоянно поддерживающий интерес к собственной персоне эпатажными заявлениями и эффектными декларациями?
Пожалуй, и то, и другое, и третье, и десятое, и двадцать пятое — и еще то, непонятное и неразличимое нами, что предстоит понять и в должной мере оценить будущим поколениям.
Николай Мельников
Ноябрь 1932
Интервью Андрею Седых [Я. М. Цвибаку]
{54}
Сирин приехал в Париж устраивать свой вечер {55}; думаю, к нему пойдет публика не только потому, что любит его как писателя, но и из любопытства: как выглядит автор «Защиты Лужина»? Публика увидит молодого человека спортивного типа, очень гибкого, нервного, порывистого. От Петербурга остались у него учтивые манеры и изысканная, слегка грассирующая речь; Кембридж наложил спортивный отпечаток; Берлин — добротность и некоторую мешковатость костюма: в Париже редко кто носит такие макинтоши на пристегивающейся подкладке.
У Сирина — продолговатое, худое, породистое лицо, высокий лоб. Говорит быстро и с увлечением. Но какая-то целомудренность мешает ему рассказывать о самом себе. И потом — это так трудно. Писателю легче рассказать о чужой жизни, нежели о собственной. В 33 года укладывается Тенишевское училище, бегство из Крыма, счастливое время Кембриджа, книги и скучная берлинская жизнь, с которой нет сил расстаться только потому, что лень трогаться с места, — да и не все ли равно, где жить?
Если отбросить писательскую работу, очень для меня мучительную и кропотливую, — рассказывает Сирин, дымя папиросой, — останется только зоология, которую я изучал в Кембридже, романские языки, большая любовь к теннису, футболу и боксу. Кажется, я неплохой голкипер…
Он говорит это с гордостью, — на мгновенье спортсмен берет верх над писателем. Но мы быстро находим прерванную нить разговора.
…Вас обвиняют в «нерусскости»{56}, говорят о сильном на вас иностранном влиянии, которое сказалось на всех романах, от «Короля, дамы, валета» — до «Камеры обскуры».
Смешно! Говорят о влиянии на меня немецких писателей{57}, которых я и не знаю. Я ведь вообще плохо читаю и говорю по-немецки. Можно говорить скорее о влиянии французском: я люблю Флобера и Пруста. Любопытно, что близость к западной культуре я почувствовал в России. Здесь же, на Западе, я ничему сознательно не научился. Зато особенно остро почувствовал обаяние Гоголя и — ближе к нам — Чехова.
Ваш Лужин повесился; Мартын Эдельвейс свихнулся и — неизвестно для чего поехал в Россию совершать свой «Подвиг»; Кречмар из «Камеры обскуры» увлекался уличной женщиной. Роман целиком еще не напечатан{58}, но конец его предвидеть не трудно. Кречмар, конечно, кончит плохо… Почему у физически и морально здорового, спортивного человека все герои такие свихнувшиеся люди?
Свихнувшиеся люди?.. Да, может быть, это правда. Трудно это объяснить. Кажется, что в страданиях человека есть больше значительного и интересного, чем в спокойной жизни. Человеческая натура раскрывается полней. Я думаю — все в этом. Есть что-то влекущее в страданиях. Сейчас я пишу роман «Отчаяние». Рассказ ведется от первого лица, обрусевшего немца. Это — история одного преступления. Еще один «свихнувшийся»…
Какова техника вашей писательской работы?
В том, что я пишу, главную роль играет настроение, — все, что от чистого разума, отступает на второй план. Замысел моего романа возникает неожиданно, рождается в одну минуту. Это — главное. Остается только проявить зафиксированную где-то в глубине пластинку. Уже все есть, все основные элементы; нужно только написать самый роман, проделать тяжелую техническую работу. Автор в процессе работы никогда не олицетворяет себя с главным действующим лицом романа, его герой живет самостоятельной, независимой жизнью; в жизни этой все заранее предопределено, и никто уже не в силах изменить ее размеренный ход.
Важен первый толчок. Есть писатели, смотрящие на свой труд как на ремесло: каждый день должно быть написано определенное количество страниц. А я верю в какую-то внутреннюю интуицию, во вдохновение писательское; иногда я пишу запоем, по 12 часов подряд, — я болен при этом и очень плохо себя чувствую. А иногда приходится бесчисленное количество раз переделывать и переписывать — есть рассказы, над которыми я работал по два месяца. И потом много времени отнимают мелочи, детали обработки: какой-нибудь пейзаж, цвет трамваев в провинциальном городке, куда попал мой герой, всякие технические подробности работы. Иногда приходится переписывать и переделывать каждое слово. Только в этой области я не ленив и терпелив. Например, чтобы написать Лужина, пришлось очень много заниматься шахматами. К слову сказать, Алехин утверждал, что я имел в виду изобразить Тартаковера{59}. Но я его совсем не знаю. Мой Лужин — чистейший плод воображения. Так в алдановском Кременцком{60} во что бы то ни стало старались найти черты какого-нибудь известного петербургского адвоката, живущего сейчас в эмиграции. И, конечно, находили. Но Алданов слишком осторожный писатель, чтобы списывать свой портрет с живого лица. Его Кременцкий родился и жил в воображении одного только Алданова.