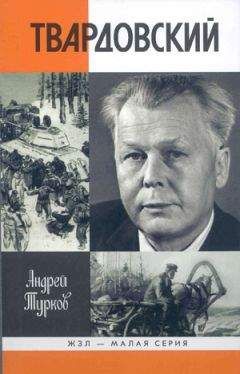В монастыре постоянно призревают страждущих: здесь людям помогают освободиться от наркотической и алкогольной зависимости, сюда приходят люди со своими скорбями и радостями. Духовная связь города с лаврой нерасторжима.
Затронута поистине глобальная тема, сложная и актуальная. Едва ли можно постигнуть её вблизи и с локального объекта, сосредоточив внимание на одной личности. Лишь с расстояния и в сравнении что-то открывается в ней. "Чтобы понять Россию, я еду в Париж", - писал поэт М. Волошин за несколько лет до Октябрьского переворота. Несомненно, эта тема прежде всего гражданского звучания: об отношении к своей стране, о национальных чувствах, о русской душе, неистовой и загадочной.
В периоды исторических потрясений она особенно обостряется. Любовь и ненависть как аналоги «родного – чужого» сплетаются в ней нередко в такой гордиев узел, что разрубить его под силу далеко не всякому мечу. Даже лермонтовское обжигающее откровение: «И ненавидим мы, и любим мы случайно» представляется тогда лишь бледным отблеском переживаемого, потому как «случайность» переходит в стихийную массовость: «тайный холод» души становится явным, и огонь, «кипящий в крови», действует разрушительно. Судьба личности в такие эпохальные моменты особенно трагична.
Мне весьма досадно было читать строки Вл. Шемшученко (№ 11) об известных читателю «литературных мародёрах», которых вскармливала Страна Советов, а они в неблагодарности из-за рубежа оплёвывали её. Кого из «известных» имеет в виду критик? Уж не Бродского, Солженицына, Некрасова, Войновича, Коржавина, Синявского, чьи судьбы оказались меж двух жерновов тоталитарной системы? Не единственной ли возможностью творить для многих из них стала эмиграция? Не было бы её в их жизни, не узнали бы мы ни «Красного колеса» Солженицына, ни пророческого «Острова Крым» Аксёнова, ни «Прогулок с Пушкиным» Синявского, ни поэзии Бродского. Ненависть к своему «родному», как, впрочем, и любовь «к чужому», бывают разными. Любить абстрактно всегда проще. Сколько болевой горечи и грусти высказывалось писателями-классиками о своём кровном, родном! Как страстно переплелись любовь и ненависть у поэтов Серебряного века!
Роковая страна, ледяная,
Проклятая железной судьбой –
Мать Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой? –
в отчаянье писал А. Белый. Между тем речь идёт о том, что нельзя не считаться с контекстом, который определяет концептуальные мысли творца. «Художественное воззрение отличается тем, что оно не дробит свой предмет и для него всякая часть имеет значение лишь в отношении к целому», – утверждал В. Розанов. В связи с этим мне непонятны вырванные цитаты из поэзии А. Цветкова в статье А. Ивантера «Не уставая ненавидеть», интерпретирующей «пропасть болезненной нелюбви» поэта к России и его «беззастенчивую неприязнь» к ней. (Возможно, их прямое назначение осталось где-то за скобками.)
И тотчас невольно передо мною возникает целая панорама поэзии белой эмиграции, которая весьма чётко проводила границу между «родным и чужим».
И вашей России не помню,
И помнить её не хочу, –
категорически заявлял Г. Иванов. Кажется, любить Россию, обрёкшую их на изгнание, было не за что. И всё-таки где-то из глубины, подспудно, родное, кровное звало, голосило, не давало покоя:
Но я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть. Вернуться в Россию стихами
(Г. Иванов)
Даже с осознанием бесповоротности судьбы вечного изгнанника, когда рождалось признание обретения нового Отечества, обострённость гражданского чувства не позволила Н. Туроверову стать на позицию пятой колонны по отношению к новой России с началом войны 41-го года:
Но помогать я никого чужого
Не позову в разрушенный курень.
В то же время потеря своего, родного требовала новых ориентиров. Кто-то, как, например, Г. Иванов, пытался найти их в космической безбрежности, не ограниченной никакими социальными препонами, от чего веяло леденящей холодностью и безнадёжной тоской:
И нет ни России, ни мира,
И нет ни любви, ни обид –
По синему царству эфира
Свободное сердце летит.
Когда И. Бунина, последнего классика русской литературы, автора глубоко национальной повести «Деревня», красная пресса обвиняла в предательстве русского народа и нелюбви к России в «Окаянных днях», он отвечал: «Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так беспрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым, в сущности, было совершенно наплевать на народ, если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств[?]»
Сегодня страдать за Россию не принято: легче «топить её в иронии». Классика всё больше вступает в противостояние с нашей действительностью, а её эстетические ценности уходят от нас всё далее. Идея «смерть автора» – в поэзии это особенно заметно, – проявляя себя во вселенском скепсисе, в демонстрации холодности души (при всей интеллектуальной широте и технической виртуозности), открывает путь к стиху «прозаическому», постмодернистскому, где слово в его коммуникационной роли выступает в создании художественного текста, требующего слова творящего. В современной поэтической панораме весьма трудно найти строки восхищения гармонией космической сферы, так поразившей когда-то Лермонтова («В небесах торжественно и чудно»).
Более века назад А. Белый ошеломил читателей «кощунственной» строкой: «В небеса запустил ананасом». Теперь снижение «высокого» (вселенского) на уровень «обыденного» стало привычной нормой. Вечную спутницу ночи – Луну – Елена Шварц представляет так:
В болотистом мелком пруду
Болеет она чесоткой,
Пахнет китайской водкой,
Мучима, будто в аду,
Смертью короткой…
(«Новый мир», № 5, 2003)
Нет, не стал космос родным для поэта нашего времени, как, впрочем, и земное пространство, где человек чувствует себя потерянно беспомощным среди обрушившегося на него враждебного мира.
И всё-таки душа не ушла из поэзии: она «мается, едва дыша» у Владимира Коробова, «на самом дне таящая небесный огонёк». Но куда обращены её безмерная печаль и тревога, вложенные в мелодию плача уличного скрипача? К ней, близкой и далёкой, Родине-матери, принимающей надрыв покаяний души потерянной и тоскующей. Потому так напряжённо его обращение:
Рыдай, одинокая скрипка,
На злом пепелище страны…
Юрий Кузнецов, «предвестник Русского хаоса», как верно заметил А. Канавщиков (№ 12), сквозь пелену всклокоченного пространства пытался рассмотреть: что там впереди? Но мутная наволочь была слишком плотна: силуэты расплывались. В результате из «оглянувшейся» души на столбовой дороге вырвался лишь безнадёжный вопрос:
Что ты, что ты узнал о родимом просторе,
Чтобы так равнодушно смотреть?
Между тем пророков в русской литературе и в ХХ веке было немало. В отходе человека от земли как исконного природного дара В. Астафьев видел неизбежную трагедию поколений, когда «своё, родное» становится чужим и ненужным. В его очерке «Голубое поле под голубыми небесами» мотив лермонтовского одиночества снимается красотой высокого космического пространства. С каким волнением писатель внимает очарованию вселенского безмолвия! Как торжественно звучит его обращение: «Уймись и ты, тревожный человек, успокойся, мятущаяся душа. Слушай! Внимай! Любуйся!» Но современный человек не замечает этой красоты и не желает внимать страстному призыву. Юное поколение, прибывшее «по разнарядке «на уборку голубого льна, истоптав его трепетную прелесть и повеселившись, нехотя принимается за работу, а уезжает, даже не оглянувшись: «Надоело оно всем. Обрыдло… И лежат снопы до зимы на дороге, вмёрзшие в грязь. Они были ничьи». И сама дорога утратила своё исконное значение «путеводителя», обернулась бездорожьем, растворившись в безбрежии российского пространства.
М. Хайдеггер, так много сказавший о возвращении человека к «естественным началам жизни», исходом такого возвращения считал «зов просёлка», который «слышится до тех пор, пока живы люди, дышавшие его воздухом». Утрата этого «зова» ведёт к «рассеиванию», потере изначально положенного человеческого пути. Услышать «зов просёлка», вернуться к коренным национальным истокам, обрести затерянный в туманных наплывах времени жизненно важный путь – в этом едва ли не основная задача русской литературы и нашей катастрофической эпохи.