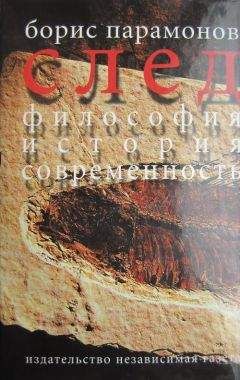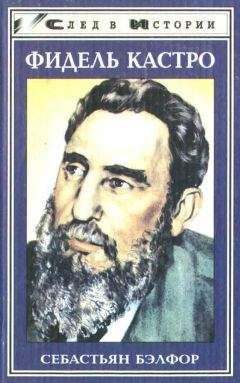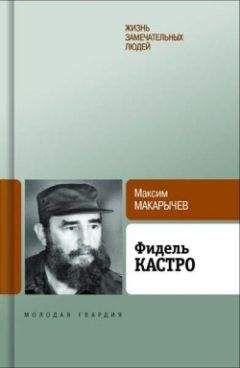62 См. В. В. Леонтович. История либерализма в России. 1762–1914. Париж, 1980, с. 136–149.
63 См. И. Осипов. Credo русского либерализма. — «Мосты», № 3 (1959).
Для русских дата 1999, может быть, важнее, чем конец тысячелетия, — ибо здесь для России долженствует иметь место не конец, а некое давно ожидаемое начало. Я имею в виду то, о чем в связи с Пушкиным говорил Гоголь: что Пушкин — это русский человек через двести лет. Буквально это звучало так:
Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.
Грешным делом, мне эти слова напомнили другие, содержащие сходное сравнение, — из всем известного романа «Золотой теленок»:
Закрытый серый «кадилак», слегка накренившись, стоял у края дороги. Среднерусская природа, отражавшаяся в его толстых полированных стеклах, выглядела чище и красивее, чем была в действительности.
Этот параллелизм двух цитат не столь поверхностен, как кажется. Пушкин «красивее» русского человека как такового, потому что он отражен, вернее, преображен, некоей эстетической линзой. То есть Пушкин не только поэт, но и сам — как бы произведение искусства, творцом которого выступила русская жизнь, русский объективный дух, русская идея, если на то пошло. И вот другой великий художник говорит нам, что таким станет, может стать русский человек через двести лет. А эти двести лет со дня рождения Пушкина — исполнились. Пора остановиться и оглянуться; если не итоги подвести, то по крайней мере подумать: есть ли, появилось ли что-нибудь в нынешней русской жизни, что позволяло бы эту предложенную Гоголем тему всерьез рассматривать?
Что же первым делом приходит на ум в этой мысленной ситуации? Очень ясное сознание, что до Пушкина нам далеко, что не похожи мы на него, никак не похожи. И даже не то что далеки от него нынешние русские, а как бы в стороне — в другой стране. Вот первая и самая горькая мысль: Пушкин — не русский человек. Но с другой стороны — а кто же? Ведь не абиссинец же он был в самом деле! Чтобы подойти к решению вопроса о Пушкине-человеке, надо начать с Пушкина-поэта. Человек всего сильнее выказывается в деле, в профессиональной своей деятельности. Каков же поэт Пушкин? И если обратиться к авторитетам, то и в этом вопросе мы сталкиваемся с той же ситуацией: Пушкин не похож ни на кого в русской литературе.
Под авторитетами я имею в виду, скажем, Мережковского. Его работа о Пушкине середины 90-х годов (прошлого, разумеется, века) очень важна в смысле культурной проекции Пушкина. Мережковского повторяли, пожалуй, все писавшие о Пушкине в культурфилософском ключе.
Две главные темы выделяет у Пушкина Мережковский: это антитеза природного и культурного человека и, вторая, конфликт героя-творца и стихии. Поэзия Пушкина, говорит Мережковский, — редкое в мировой культуре сочетание двух начал: самоотречения и Прометеева духа. Таким образом гармонизируются обе его главные темы: если в столкновении культуры с природой Пушкин готов стать на сторону природного человека, старого цыгана против Алеко, то в конфликте со стихией он на стороне героя — заклинателя стихий. Культура против природы принимается Пушкиным тогда, когда ее, культуру, персонифицирует творец, художник; это и есть для него единственно приемлемый герой. Мережковский пишет:
Пушкин, как галилеянин, противополагает первобытного человека современной культуре. Той же современной культуре, основанной на власти черни, на демократическом понятии равенства и большинства голосов, противополагает он, как язычник, самовластную волю единого творца или разрушителя, артиста или героя. Полубог и укрощаемая им стихия — таков второй главный мотив пушкинской поэзии.
Галилеянин, напомню, значит христианин (иногда даже сам Христос). В Пушкине, таким образом, Мережковский выделяет два начала — христианское и языческое, и видит их примиренными, слитыми в высшем синтезе. И вот этот синтез, настаивает Мережковский, начисто утратила последующая, послепушкинская русская литература, даже не утратила, а сознательно от него отошла, отказалась. Мережковский далее:
Вся русская литература после Пушкина будет демократическим и галилейским восстанием на того гиганта, который «над бездной Россию вздернул[45] на дыбы». Все великие русские писатели, не только явные мистики — Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, но даже Тургенев и Гончаров — по наружности западники, по существу такие же враги культуры, — будут звать Россию прочь от единственного русского героя и неразгаданного любимца Пушкина, вечно-одинокого исполина на обледенелой глыбе финского гранита, — будут звать назад — к материнскому лону русской земли, согретой русским солнцем, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа-пахаря, в уютную горницу старосветских помещиков, к дикому обрыву над родимою Волгой, к затишью дворянских гнезд, к серафической улыбке Идиота, к блаженному «неделанию» Ясной Поляны, — и все они, все до единого, быть может, сами того не зная, подхватят этот вызов малых великому, этот богохульный крик возмутившейся черни: «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!»
Проще говоря, Пушкин у Мережковского — за императора Петра и против маленького человека в русской литературе. Это, конечно, не совсем так; вернее, совсем не так. Пушкин-то ведь и начал тему маленького человека в русской литературе. Это у него не только Евгений из «Медного всадника» или капитан Миронов, но и, скажем, Иван Петрович Белкин, фиктивный автор известных повестей. Из Пушкина не стоит делать ренессансного титана, как это сделал Мережковский, а за ним повторил Бердяев: Пушкин, мол, единственный в России ренессансный человек. Другое дело, и тут Мережковский прав, что этот «маленький человек» интересует Пушкина главным образом как литературная маска: в Пушкине эстетические реакции преобладают над моральными. Он остается художником прежде всего и главным образом; и с этой позиции русская литература действительно сошла после Пушкина.
Позиция Пушкина-человека станет яснее, если мы поймем как следует Пушкина-художника. А для этого есть не только богатейший материал в виде творчества самого Пушкина, но и многие тонкие исследовательские разработки.
Тут бы я начал с некоего парадокса: частичной реабилитации Писарева и его статей о Пушкине. Этих статей даже большевики не принимали. Что уж говорить об оценке Писарева с точки зрения сборника «Вехи»: бес, да и только. Правильно увидели соотношения в системе Пушкин — Писарев формалисты. В свое время я обратил внимание на маленькую статейку Шкловского, буквально заметку, в «Литературной газете» 60-х годов, где он писал, не помню, по какому поводу, о таланте Писарева и о том, как он многому у него научился. Мне было неясно — чему? Но впоследствии подобная мысль, только куда более артикулированная, встретилась мне у Якобсона в работе его о Хлебникове. Писарев сделал то полезное дело в литературной теории, утверждал Якобсон, что продемонстрировал на примере «Евгения Онегина» фиктивный характер так называемых литературных героев — эту условную мотивировку для монтажа художественных приемов. Другими словами, Писарев помог понять бессодержательность художественных форм, ошибясь, правда, в том, что эту бессодержательность поставил искусству в вину, тогда как здесь его, искусства, не вина, а специфика.
В самом деле, послушаем Писарева. В статье «Пушкин и Белинский» он опровергает слова последнего о том, что «Евгений Онегин» — это энциклопедия русской жизни.
Если вы пожелаете узнать, чем занималась образованнейшая часть русского общества в двадцатых годах, — пишет Писарев, — то энциклопедия русской жизни ответит вам, что эта образованнейшая часть ела, пила, плясала, посещала театры, влюблялась и страдала то ли от скуки, то ли от любви. И только? — спросите вы. И только! — ответит энциклопедия. Это очень весело, подумаете вы, но не совсем правдоподобно. Неужели в тогдашней России не было ничего другого? Неужели молодые люди не мечтали о карьерах и не старались проложить себе, так или иначе, дорогу к богатству и почестям? Неужели каждый отдельный человек был доволен своим положением и не шевелил ни одним пальцем для того, чтобы улучшить это положение? Неужели Онегину приходилось презирать людей только за то, что они очень громко стучали каблуками во время мазурки?..
Эта энциклопедия, — продолжает Писарев, — сообщает нам очень подробные сведения о столичных ресторанах, о танцовщице Истоминой, которая летает по сцене, «как пух от уст Эола», о том, что варенье подается на блюдечках, а брусничная вода в кувшине; о том, что дамы говорили по-русски с грамматическими ошибками; о том, какие стишки пишутся в альбомах уездных барышень; о том, что шампанское заменяется иногда в деревнях цимлянским; о том, что котильон танцуется после мазурки, и так далее. Словом, вы найдете описание многих мелких обычаев, но из этих крошечных кусочков, годных только для записного антиквария, вы не извлечете почти ничего для физиологии или для патологии тогдашнего общества; вы решительно не узнаете, какими идеями или иллюзиями жило это общество; вы решительно не узнаете, что давало ему смысл и направление или что поддерживало в нем бессмыслицу и апатию. Исторической картины вы не увидите; вы увидите только коллекцию старинных костюмов и причесок, старинных прейскурантов и афиш, старинной мебели и старинных ужимок. Все это описано чрезвычайно живо и весело, но ведь этого мало…