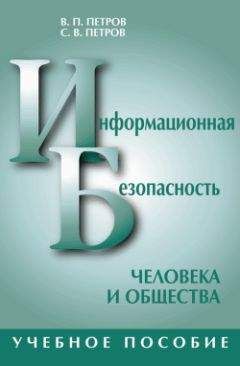Но дело было не только в расстреле близкого человека, даже если бы известие оказалось верным. Мировосприятие Ахматовой, очевидно, совпало с тем мироощущением Пастернака, которое заставило его взять к «Распаду» эпиграф из «Страшной мести» с его глубинным ужасным смыслом.
Гибель детей… «Для того ль тебя носила / Я когда-то на руках…» (Вспомним горькое – «Вот для чего я пела и мечтала…».)
Убитые младенцы у Гоголя, «слезинка ребенка» у Достоевского…
Самовластительный злодей,
Тебя, твой трон я ненавижу!
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу!
Так декларировал в 1818 году молодой Пушкин. Речь шла о Наполеоне. Через сто лет наследники поэта уже не могли заставить себя чувствовать «жестокую радость». Наоборот, нет сомнения, что они считали убийство царской семьи – мальчика-наследника, женщин, совершенно невинной обслуги – отвратительным преступлением. Но кровь самого Николая II, пролитую в июле 1918 года в Екатеринбурге, они восприняли как трагический ответ на невинную кровь 9 января 1905 года.
На рубеже 1921–1922 годов Мандельштам писал в очерке «Кровавая мистерия 9-го января»:
«Сколько раз разбивалась процессия петербургских рабочих, докатившись до последней роковой заставы, сколько раз повторялась мистерия девятого января? Она разрослась одновременно во всех концах великого города – и за Московской, и за Нарвской заставой, и на Охте, и на Васильевском, и на Выборгской…
Вместо одного грандиозного театра получилось несколько равноправных маленьких. И каждый из них справлялся самостоятельно со своей задачей: обезглавливанием веры в царя, цареубийственным апофеозом, начертанным кровью на снегу.
Любая детская шапочка, рукавичка или женский платок, жалко брошенный в этот день на петербургских снегах, оставались памяткой того, что царь должен умереть, что царь умрет.
Может, во всей летописи революции не было другого такого дня, столь насыщенного содержанием, как 9-е января. Сознание значительности этого дня в умах современников перевешивало его понятный смысл, тяготело над ними, как нечто грозное, тяжелое, необъяснимое.
Урок девятого января – цареубийство – настоящий урок трагедии; нельзя жить, если не будет убит царь»[60].
Мандельштам отнюдь не был кровожаден. Он был подлинным русским интеллигентом со всеми вытекающими отсюда гуманистическими последствиями. Он, как известно, рискуя головой, вырвал из рук пьяного чекиста пачку подписанных смертных приговоров, разорвал их и спас этим от гибели несколько человек. Но на преступление царской власти он смотрел так, как и большинство либеральных интеллигентов. Что, впрочем, вовсе не гарантировало их лояльности по отношению к советской власти.
Вряд ли Ахматова судила о преступлении 9 января иначе. В автобиографических записях есть такие строки:
«Непременно, 9 января и Цусима – потрясение на всю жизнь, и так как первое, то особенно страшное».
Мандельштам писал «Мистерию 9-го января» уже после убийства любимого и почитаемого им Гумилева (много позже он сказал Ахматовой, что всю жизнь разговаривает с Гумилевым – «с Колей»). И тем не менее его отношение к самодержавию осталось бескомпромиссным.
Мировоззрение «от противного» не было им свойственно.
Ни Ахматова, ни Мандельштам не были ни убежденными монархистами, ни – тем более, как видим, – поклонниками самодержавия. Их оппозиция Октябрю, как прежде приятие Февраля, объясняется одной и той же причиной – их либерализмом и, если угодно, демократизмом.
Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги,
чтоб я теперь их предал? –
писал Мандельштам уже в 1931 году. Тот же вопрос мог он задать себе и в 1917-м. Но если «взглянув на историю взглядом Шекспира», он с 1918 года – до поры! – дрейфовал к лояльности, как и Пастернак, то Ахматова осталась неколебимо последовательной, и последовательность эта определялась той же традицией.
Рискуя надоесть читателю, я хочу еще раз повторить во избежание столь частых идеологических недоразумений – те либеральные и даже либерально-консервативные интеллигенты, которые, как говорится, на дух не приняли советскую власть в ее послеоктябрьском варианте, вовсе не обязательно были сторонниками царского режима и монархии вообще, равно как и принципиальными контрреволюционерами. Они, как правило, искренне сочувствовали освободительному движению. Федор Степун, окончивший дни в эмиграции, человек исключительного достоинства и твердости, которого не заподозришь в симпатии к большевикам, достаточно полно сформулировал эту позицию:
«Можно по-разному относиться к борьбе русской интеллигенции с монархией. С монархически-синодальной точки зрения ее можно считать безумием и даже преступлением; с либерально-гуманитарной и революционно-социалистической – в ней нельзя не видеть основного смысла новой русской истории. Об одном только как будто бы невозможен спор: о грандиозном размахе и даже вдохновенности нашего за сто лет до октябрьского переворота начавшегося Освободительного движения»[61].
Антибольшевистски настроенный Г. Федотов, очерчивая в программной статье апреля 1918 года «лицо России», помимо прочего утверждал, что
«оно в бесчисленных мучениках, павших за свободу, от Радищева и декабристов, до безымянных святых могил 23 марта 1917 года»[62].
Пользуясь удачным термином Ф. Степуна, можно уверенно сказать, что Ахматова, Мандельштам, Пастернак исповедовали ту же «либерально-гуманитарную точку зрения».
В том же 1918 году произошло событие, которое, я уверен, укрепило Ахматову в ее не столько политическом, сколько моральном неприятии происходящего. 30 августа 1918 года на Дворцовой площади в вестибюле Петроградской ЧК был убит выстрелом из револьвера в голову председатель комиссии Урицкий.
Драма Урицкий – Каннегисер столь существенна для нашего сюжета, что на ней следует остановиться подробнее.
В советских справочных изданиях, как, впрочем, и в исторических работах, обычно пишут, что Урицкого убил эсер, увязывая это с покушением на Ленина Фанни Каплан в тот же день в Москве. Но, во-первых, есть основания сомневаться, что Каплан была эсеркой, а не анархисткой; во-вторых, покушение Каннегисера отнюдь не было обычной политической акцией и уж наверняка не было связано с деятельностью социалистов-революционеров.
Леонид Каннегисер, студент-политехник, в недавнем прошлом юнкер Михайловского артиллерийского училища, был в то время товарищем (т. е. заместителем) председателя Союза юнкеров-социалистов. Эсером он не был, но входил в близкую социалистам-революционерам партию народных социалистов. Лидером этой партии был Николай Васильевич Чайковский, известный народник. Во время гражданской войны Чайковский возглавил антибольшевистское правительство на Севере[63].
Писатель Марк Алданов, близко знавший Каннегисера, вспоминал:
«Леонид Каннегисер не принимал никакого участия в политике до весны 1918 года. Февральская революция его захватила, кого же она не захватывала так недели на две или три?
Он был председателем “союза юнкеров-социалистов”. Не поручусь – как это ни странно, – что он не увлекался и идеями революции Октябрьской. Ленин произвел на него 25 октября сильнейшее впечатление…
События 1918 года, Брест-Литовский мир, скоро переменили мысли Каннегисера… В апреле (или в мае) 1918 года он уже ненавидел большевиков и принимал какое-то участие в конспиративной работе по их свержению. Гибель друга (Перельцвейга) сделала его террористом»[64].
Алданов явно ошибается дважды – политикой Каннегисер увлекся не на две-три недели, а председателем «Союза юнкеров-социалистов» был Перельцвейг, расстрелянный Урицким. Но сведения относительно перелома настроений молодого социалиста в мае 1918 года безусловно точны и важны для нас. Это был момент рокового и окончательного размежевания большевиков и всех остальных революционных партий.
Нужно ясно сознавать, что в ситуации Урицкий – Каннегисер столкнулись не революция и контрреволюция, но разные представления о революции. Началась смертельная борьба между различными течениями русского освободительного движения, в тот момент более жестокая, чем вражда красных и белых, революционеров и сторонников рухнувшего режима.
После октябрьского переворота газета народных социалистов «Народное слово» выходила под лозунгом «Долой большевиков. Спасите родину и революцию»[65]. Этот смертельный раскол социалистического движения в России, мало осознаваемый теперь, был для интеллигенции чрезвычайно болезненной стороной общей трагедии.