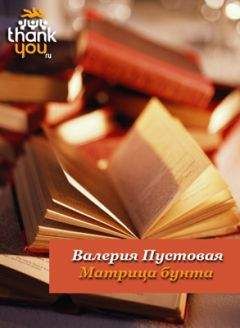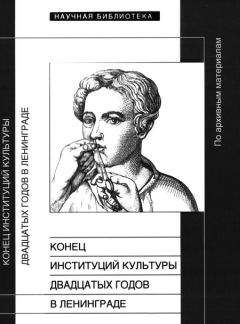Из элементной структуры сказки возникает принцип сериальности. Многообразно сочетая элементы, можно создавать сказочные циклы, в которых будут проиграны отдельные ситуации сказочного канона, задействующие одних и тех же персонажей. Ольга Лукас в своих терапевтических сказках использует Золушку как социально-имиджевую модель, а Петр Бормор выжимает максимум из логической конфигурации Дракон — Рыцарь — Принцесса.
Найти общее звено в двух наиболее далеких сюжетах, создав эффект наложения, — еще один способ заставить элемент работать как сказку. Интересны такие наложения, которые углубляют смысл исходного сюжета, например — Питер Пэн и Фауст, Карлсон, Икар и валькирия у Фрая.
Умножение элемента, который традиционно воспринимается как единичный в сказке, — прямая профанация, хохот сказочника. Христос на осле, забредший в город Пфунзгбрф одного из множества миров, ожидающего мессию-негра с огненным мечом; ежевечерние подскоки с поцелуями к балкону красавицы, выведенной из себя тем, что кавалер так и не перешел к более решительным действиям; склока отцов-королей о том, чью засидевшуюся в девках дочку пообещать за голову дракона (Бормор). «Склад замороженных невест» — спящих красавиц; множество лжесултанчиков, подписанных на ЖЖ Шахерезады (Лукас). Утро как «бесконечная череда апокалипсисов» в мирах, сотворенных сном (Фрай). Короче, приходят добрые герои к Темному Властелину, а он морщится: «Опять вы» (Бормор)… Умножение лишает героев и ситуацию магической/сакральной исключительности — это операция по расколдовыванию, довершающая распад сказочного канона.
Наконец, есть ряд логических приемов игры с сюжетными звеньями сказки. Почти математическая задача: найти такое звено, изменение которого даст новое развитие известной ситуации. Это может быть подмена звена: крестная опекает принца (Лукас), дракона убил не принц, а мужики с кольями, рыцарь требует не принцессу, а Святой Грааль, дракон похитил овцу — обиженная принцесса топится, Иван целовал лягушек — а надо было лошадь, Кощеев сундук начинен взрывчаткой, «кретинки» добрые феи благословляют очередного новорожденного мальчика быть самой прекрасной, в очередной раз лишая королевскую чету возможности иметь наследника (Бормор). Можно звено вовсе убрать и посмотреть, как сказка обойдется без кульминации — рыцарь и дракон без боя (Бормор), а Золушка — без бала (Лукас). Можно, наоборот, ввести дополнительное логическое звено, разрушающее смысл исходного сюжета: что, если бой только экзамен, а к дракону однажды придет зубной врач? Можно составлять из героев новые конфигурации, вышибая из-под них почву канонических мотивов: так появляются принцесса — домашнее животное дракона и дракон — домашнее животное принцессы, дракон, пустившийся в погоню за героями, чтобы отдать смену белья, запасную корону и пакет с жареной курицей (вариант: чтобы взять с Ивана плату за украденное), Иван, пособляющий Кощею умереть, чтобы перейти на новый уровень игры, девушка, благодарная дракону за спасение от инквизиции (Бормор).
Сказочники-деконструкторы, сваливая с себя бремя традиции, приходят к отрицанию необходимости самого жанра сказки для отображения жизненных конфликтов и ценностей. Сказка эволюционирует в притчу, на место героического пафоса заступает сентиментальный, разбавляя умилением бесслезную иронию постмодернистских игр. «Истории про всякую всячину» Фрая необыкновенно нежны к прошлому — не к культурному, всечеловеческому, а к личной эпохе детства. Его «Странные сказки» и «Страшные сказки про людей» — философские притчи или притчеобразные истории из жизни, которые со сказками роднит разве что стремление прикоснуться к таинственному, понятому, однако, не в волшебном смысле, а в экзистенциальном. По эту сторону реальности остается в своих притчах и Бормор, логической своей сказке предоставляя скатиться до уровня анекдотов и каламбуров.
Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ: Настоящие сказки (М.: Вагриус, 1999)
Город света. Волшебные истории (СПб: Амфора, 2005)
Два царства (СПб.: Амфора, 2007)
Черная бабочка (СПб.: Амфора, 2008)
А. КАБАКОВ: Московские сказки (М.: Вагриус, 2005)
М. ВИШНЕВЕЦКАЯ: Кащей и Ягда, или Небесные яблоки (М.: Новое литературное обозрение, 2004)
Удаление сказки от повседневности в новеллах и повестях Людмилы Петрушевской и в рассказах Александра Кабакова — образное выражение социальной модернизации. Сказочная память призвана выражать нечто такое, что уже утрачено в живом коллективном опыте. В то время, когда всем управляют «уже новые молодые люди, быстрые, в кожаных куртках», сказка уходит в спасительную изоляцию.
Родители принца с золотыми волосами эмигрируют из королевства в «квартиру в зеленом районе». Великий мастер Амати скрывается в высокогорном дворце, «закрытом для посещений». Елена Прекрасная с возлюбленным незримо плавают на кораблях, а невольно способствовавший их счастью волшебник принципиально отказывается от добрых дел — «не занимается мелочами» (Петрушевская).
Бытовое проживание традиционных элементов сказки не приближает, а устраняет волшебство. Встреча Елены и проститутки гротескно высмеивает именно что не проститутку, а Елену, красота которой нелепа и громоздка для нашего быта, как ожившая пластмассовая барби, — таков же эффект сопоставления настоящего карлика и неуклюже ползущей по его плечу Дюймовочки (Петрушевская). Перенесение действия из некоторого царства в «некоторую префектуру», буквализация царевны-лягушки в большеротой иностранной принцессе, а Красной Шапочки — в пилотке дежурной по станции (Кабаков) иронизируют над возможностью соотнесения сказки с действительностью. Соотнесение невозможно, потому что контрагент действительности, сказка, только подразумевается. Кабаков и Петрушевская сопоставляют сказочную мечту и реальность таким образом, чтобы нейтрализовать двоемирие: мир есть только один, наш повседневный мир семейно-боевого и купле-продажного быта.
Призывание сказки в этот не лучший, но единственный из миров подобно дорисовыванию этажей над фундаментом сгоревшего дома. Ценностный хаос общежития сказочный закон способен воображаемо упорядочить — так в новой сказке возникает булгаковское эхо. Барби-ведьма в «кукольном романе» Петрушевской по-воландовски обличает собравшиеся в телестудии семьи («Маленькая волшебница»). А в рассказах Кабакова появляются ситуации фантастического воздаяния современным мытарям и блудницам, которые в реальности действуют безнаказанно, так как сами ею и управляют. Однако силы не равны, и иллюзия сказки скоро растворяется в неизбывности быта. И вот уже, как будто против замысла рассказчика, бытовой закон завладевает сказкой, а не наоборот: Красная Шапочка поторопила бабушку оставить ее наследницей, мертвая царевна Ленин, вместо того чтобы ожить, затевает революцию мертвых, ковер-самолет никуда не доставит пассажиров, разругавшихся из-за пункта эмиграции (Кабаков). У обоих авторов возникает мысль о том, что сказочный страх ничто перед реальным злом: жуток клубящийся тьмой салон летучего автоголландца — а пострашней его, потому что реальней, хапуга Красная Шапочка как истинно положительная героиня века (Кабаков), коварен злой колдун, превративший двух танцовщиц в толстую силачку Марилену, — а подлей его будет жених Марилены, подбирающийся к ее деньгам (Петрушевская).
Но главный удар, который наносит сказочному порядку современность, — это создание лживого аналога волшебства и света, подмена сказки телесказкой. Авторы обличают целлулоидную природу модернизированных представлений общества о «добре».
Телевидение в волшебных историях Петрушевской структурно сливается с силами зла, так что злая королева в «Вербе-хлест», злой колдун в «Городе света», злая кукла в «Маленькой волшебнице» просто запускают механизм телевизионной зависимости аудитории: магия говорящей картинки делает ненужными зелья и заклинания.
«Московские» сказки — топографическое определение у Кабакова имеет оценочный смысл, обозначая градус отклонения масскультной лжи от народной правды. Не случайно набор действующих лиц строго фиксирован и воспроизводится, чуть ли не в виде перечня, от текста к тексту: так обозначена граница «московской сказки», создана новая память жанра, подменившая принцесс феями светской хроники, героев — клипмейкерами, а подвиг — успехом. Аналогичная подмена действующих лиц общественной мифологии отражена в заглавии одной из новых сказок Петрушевской — «Как Пенелопа», — разумеющем, выяснится в финале, не жену Одиссея, а кинозвезду Пенелопу Крус.