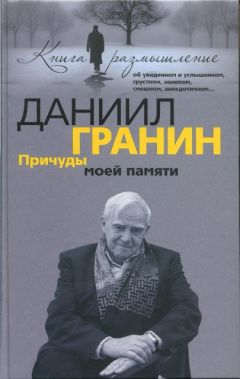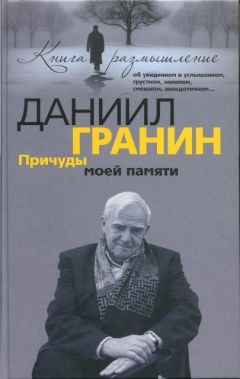Во времена Ленинградского дела опять стали косить подчистую. Не унять было. Заметное, яркое, тех, кто с честью прошел военное лихолетье, выдвинулся, — всех под корень. Я тогда работал в кабельной сети Ленэнерго. Приедешь в управление — того нет, этого. Где? Молчат. Исчезли директора электростанций, главные инженеры. Рядом, в Смольнинском райисполкоме, творилось то же самое. Город затих. Снова — в который раз — навалилась беда: одна не угасла, другая разгорелась. Чего только ни натерпелся этот великий город и до войны, и в войну, и после; кара за карой, ни одна горькая чаша не миновала его. Все согнуть старались, в провинцию вогнать, под общий манер обрядить.
Косыгин был коренной питерец. Не помню уж, по какому поводу, а может, и без повода, он рассказал, что учился в Петровском реальном училище, там, где теперь Нахимовское училище, там, где высоко, в нише здания стоит черный бюст Петра Великого. В прошлом году, будучи в Ленинграде, он заехал в училище, просто так, взглянуть на классы своего детства.
— …Представляете, в спальне двухэтажные кровати стоят! — сердито недоумевал он. — Будто места мало. В столовой ложки алюминиевые, перекрученные. Что мы, не можем будущих офицеров обеспечить?..
Главная досада была на то, что неприглядней стало, чем в его школьные годы.
Опасно возвращаться в места своего детства: большей частью там поселяются разочарования. И все же детство надо иногда навещать, нельзя чтобы оно зарастало, заглохло. Мне нравилось, что он любил свое детство и бывал там. Директор Эрмитажа Борис Борисович Пиотровский рассказал, как однажды Косыгин приехал к ним в музей и попросил провести его по старой экспозиции, по тем залам, по которым водили до революции. Разыскали сотрудника, знающего границы старого Эрмитажа. Косыгин признался, что ему хочется осмотреть то, что когда-то показывал ему его дед. И долго ходил из зала в зал, останавливался, узнавал, удивлялся детской своей памяти. За время своего директорства Пиотровский не помнил, чтобы кто-то из высшего начальства сам по себе, без делегации посетил Эрмитаж, захотел бы полюбоваться его сокровищами. Косыгин был первый. Тогдашний секретарь Ленинградского обкома и тот за все годы не нашел времени походить по Эрмитажу.
В чем состояла сложность работы в блокадном городе? Вот что мне захотелось узнать. Всегда ищешь конфликты, столкновения характеров, взглядов, трудно решаемые проблемы. Друзья друзьями, но ведь приходилось добиваться, заставлять разворачиваться того же Кузнецова и Попкова, обеспечивать Дорогу жизни. Да и с А. А. Ждановым было непросто. Тем более что ни в город, ни на фронт в передовые части Жданов не выезжал, обстановку на местах знал плохо. На это жаловались многие блокадники. К чему же сводились разногласия? То, что они были, — известно. Не случайно в своем рассказе Косыгин ни разу не помянул Жданова, ни по какому поводу.
— Разногласия? — Косыгин посмотрел поверх меня вдаль, морщины медленно соединялись в невеселую улыбочку. — Никаких разногласий быть не могло… Не могло, — повторил он, настаивая. — Вот Хрулев, генерал армии, тот помогал всячески.
Перевел на Хрулева, потом перешел на ленинградских милиционеров, которые, помирая с голоду, продолжали нести службу. Пришлось настоять, чтобы Берия прислал с Большой земли свежие милицейские подразделения. Они крепко помогли тогда.
— Берия не хотел… Отношения Сталина и Жданова к тому времени стали неважными, — как бы невзначай бросил он. — Это Берия постарался…
Разговор коснулся продовольственных поставок, что шли через Микояна. И тут тоже, как я понял, сказались трения между Микояном и Ждановым, не случайно Жданов жаловался Сталину на Микояна. От всего это возникали дополнительные трудности в снабжении города, Косыгину приходилось маневрировать, учитывать сложные взаимоотношения вождей. Из Ленинграда не так-то хорошо просматривались коридоры власти. Скупые его замечания высвечивали малый промежуток — лишь на шаг, чтоб не запнуться. Вообразить эти самые коридоры власти мне было трудно, у меня появлялась другая картина, привычная мне: подстанция, распредустройства высокого напряжения, нависшие провода, тарелки изоляторов, медные шины. Воздух насыщен электричеством, повсюду потрескивает, гудит…
Как-то пришлось работать под напряжением у самых шин вопреки всем правилам безопасности. Поднимаешь руку медленно, глаз не спуская с басовито жужжащей рядышком тусклой меди. Каждое движение соизмеряешь, мышцы сводит, всюду ощущаешь электрическое поле, готовое вот-вот пробить тебя насквозь смертельным ударом. Примерно с тем же замедленным, бесконечно растянутым страхом ползли мы однажды через минное поле.
Косыгин вел свой рассказ, умело огибая запретные места, искусно сворачивая, не давая мне рассмотреть, прочувствовать, спросить… По обеим сторонам тянулись запертые, опечатанные двери. А почему? От кого заперты? От себя самого? От нас? Ему бы воспользоваться случаем. Когда еще придется повторить эту дорогу! Времени впереди немного. Восьмой десяток идет, возраст критический, когда ничего нельзя откладывать. Голова его хранила огромные материалы о блокаде, о войне, о послевоенных делах. Расскажи, чего же ждать? Второго раза не бывает. Народ доверил тебе в решающие годы руководить промышленностью, правительством, ключевыми событиями, и будь добр, отчитайся. Напиши или расскажи. Тем более что творили вы эту нашу историю, судьбу нашу — безгласно, решали при закрытых дверях, никому не открывались в сомнениях или ошибках. Когда-то существовало в обществе историческое сознание. И большие, и малые деятели понимали свою ответственность перед детьми, внуками, свою включенность в историю. Куда исчезло это чувство? Люди стали так немо, словно виновато, уходить из жизни. Но почему? Ведь сделано много хорошего. Если что не так, то тем более надо поделиться… Ты же остался последний из всех твоих друзей-сподвижников, никто из ленинградских секретарей обкома тех лет не уцелел, никого из членов Военного совета тоже нет в живых…
Чем дальше я слушал его, тем меньше понимал, чего он так стережется. Ему-то чего опасаться? Глаза наши сошлись.
— Нельзя того, нельзя этого, а что можно? — вырвалось у меня.
Он понял, о чем я, и понял, что я понял, что перешло из глаз в глаза. Ничего не ответил, хмыкнул то ли над моей бестолковостью, то ли над тем, что я не в состоянии был увидеть.
Молчаливый телефон стоял между нами на пустом столике. Присутствие его мешало. Он стоял, как соглядатай, слухач.
Господи, хоть бы что-нибудь сменил в этом кабинете! Мне стало жаль этого старого, но еще сильного, умного человека, который вроде бы так много мог, имел огромную власть и был так зажат.
…Все же одно обстоятельство надо было прояснить. Во что бы то ни стало. Не отступаться, пока не узнаю, как совершался выбор в делах эвакуации. Выбор между населением и оборудованием. Между умирающими от голода и станками, аппаратурой, необходимой для военных заводов. Вывозили самолетами, бараками, машинами, но транспорта было в обрез, не хватало, приходилось выбирать, что вывозить раньше, — людей или металл, кого спасать, кому помогать: фронтовикам — танками, самолетами или же ленинградцам… Так вот, на каких весах взвешивали нужду и срочность?
— И людей вывозили, и оборудование. Одновременно, — ответил Косыгин.
— Ясно, что одновременно, но это в общем и целом. А практически ведь всякий раз приходилось решать, чего сколько.
— Так и решали, и то, и другое, — сердито настаивал Косыгин. — А как тут еще можно выбирать?
— Но приходилось выбирать!..
Я упорствовал и он упорствовал. Я понимал, что в том-то и беда была, что ему нельзя было выбирать. В этом безвыходность была и общая мука. Не могли выбирать и не могли не выбирать. Вот какого признания я добивался — о мучительности положения, о том, какой душевный разрыв происходил. С него требовали скорее отгружать, обеспечивать заводы, ради этого шли на все. И в то же время надо было вывозить горожан, каждый день умирали тысячи людей. А мы на передовой смотрели в небо и не могли дождаться наших истребителей. Такая вот сшибка происходила. Хоть словцо бы одно произнес об этом. Словечко про ту горечь, про случай самый малый, когда сердце стиснуло, — было же что-то, кому-то помог, пожалел, нарушил. Или наоборот, не помог, упустил…
Но нет, ничего не мог добиться.
Насчет выбора передо мной маячила одна сценка. Пойди у нас по-другому разговор, я бы ее обязательно рассказал. Тогда, кстати, я впервые увидел Жданова. Это было зимой 1942 года. Прямо из окопов нас вызвали в штаб армии, там придирчиво осмотрели, как выглядим. Накануне мы получили новые гимнастерки, надраили свою кирзу. Подшили свежие подворотнички. Штаб помешался на Благодатном, так что в Смольный нас везли через весь город. Мы ехали на газогенераторной полуторке стоя, чтобы не запачкаться, в Смольном на вручение орденов нас собрали из разных частей фронта. Нас — человек шестьдесят. Я мало что видел, и замечал, потому что волновался. Провели нас в маленький зал. За столом сидели незнакомые мне начальники, командиры. Единственный, кого я узнал, был Жданов. Все вручение он просидел молча, неподвижно, запомнились его рыхлость, сонность. В конце процедуры он тяжело поднялся, поздравил нас с награждением и сказал про неизбежный разгром немецких оккупантов. Говорил он с чувством, но круглое, бледное, гладко-блестящее его лицо сохраняло безразличие. В некоторых местах он поднимал голос, и мы добросовестно хлопали. Когда я вернулся в батальон, пересказать толком, о чем он говорил, я не мог. У меня получалась какая-то ерунда, ничего нового, интересного. Ни про второй фронт, ни про наши самолеты. Нас Жданов ни о чем не спросил. Хотя мы были наготове, нас инструктировали в политотделе. Мы все видели его впервые. Ни у кого из нас он в части не бывал, вообще не было слышно, чтобы он побывал на переднем крае. Весть об этом дошла бы.