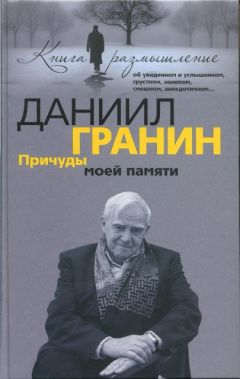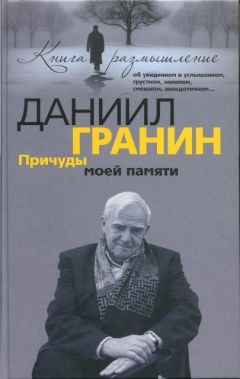Насчет выбора передо мной маячила одна сценка. Пойди у нас по-другому разговор, я бы ее обязательно рассказал. Тогда, кстати, я впервые увидел Жданова. Это было зимой 1942 года. Прямо из окопов нас вызвали в штаб армии, там придирчиво осмотрели, как выглядим. Накануне мы получили новые гимнастерки, надраили свою кирзу. Подшили свежие подворотнички. Штаб помешался на Благодатном, так что в Смольный нас везли через весь город. Мы ехали на газогенераторной полуторке стоя, чтобы не запачкаться, в Смольном на вручение орденов нас собрали из разных частей фронта. Нас — человек шестьдесят. Я мало что видел, и замечал, потому что волновался. Провели нас в маленький зал. За столом сидели незнакомые мне начальники, командиры. Единственный, кого я узнал, был Жданов. Все вручение он просидел молча, неподвижно, запомнились его рыхлость, сонность. В конце процедуры он тяжело поднялся, поздравил нас с награждением и сказал про неизбежный разгром немецких оккупантов. Говорил он с чувством, но круглое, бледное, гладко-блестящее его лицо сохраняло безразличие. В некоторых местах он поднимал голос, и мы добросовестно хлопали. Когда я вернулся в батальон, пересказать толком, о чем он говорил, я не мог. У меня получалась какая-то ерунда, ничего нового, интересного. Ни про второй фронт, ни про наши самолеты. Нас Жданов ни о чем не спросил. Хотя мы были наготове, нас инструктировали в политотделе. Мы все видели его впервые. Ни у кого из нас он в части не бывал, вообще не было слышно, чтобы он побывал на переднем крае. Весть об этом дошла бы.
Вот про обед я ребятам рассказал. Как нас повели вниз в столовую и кормили шикарным обедом. То, что покушать дадут, — это мы знали, это полагалось. Но обед был на скатерти, на фарфоровых тарелках, с казенными ложками. Дали суп гороховый — с кусочком сала, на второе — перловую кашу и котлетку, на третье — розовый кисель. Порции крохотные, не обед, а воспоминание. Зато лежали вилка, чайная ложка. Самое трогательное — на блюдечке три куска хлеба и конфетка в зеленой бумажке. Конфетка была как бы сверх всякой программы, сюрприз. Ее совали в карманы, в планшетки, на память, друзей угостить. Из всех обедов именно этот помнится. Потом был концерт московских артистов. Пела певица, крупная женщина в длинном шелковом платье с вырезом, чтец читал Некрасова, запомнился баянист с плясуньей. Меня поразило, какие они розовые, свежие. В зале было тепло, некоторые разомлели, похрапывали. После концерта какой-то мужик в защитном френче подозвал нас, сделал замечание: «Мы, — говорит, — летели из Москвы, чтобы порадовать своим искусством, а тут храпака задают, некрасиво. В нас зенитки стреляли, артисты жизнью рисковали в надежде… Концерт этот дорогого стоит…» И в таком роде, и тому подобное. Кто-то извинился, виноваты, с отвычки, мол. Подошел еще помощник Жданова (это мы потом узнали), стоит, слушает. Тогда Витя Левашов, комвзвода артразведки, сунул руки за ремень, голову набок и спрашивает: «А сколько вы, дорогой товарищ, весите?» Тот оторопел. Левашов оглядел его: «Килограммов семьдесят потянете, не меньше. Вместе с остальными артистами, да еще баян прибавить, составит шестьсот кило, не меньше. Вопрос к вам такой: если эти шестьсот кило переведем на муку и консервы, которые вместо вас привезли бы, мы бы почти целый полк подкормили: что касается гражданских, так тех, считай, тысячу спасли бы. Артисты, конечно, тут ни при чем им спасибо, но концерт, точно, драгоценный, шестьсот кило продовольствия проспать, за это наказывать надо!» Все посмеивались, даже концертный начальник заулыбался, один только помощник помрачнел. Если бы не орден, погорел бы Виктор. Его потом долго драили. Шутка шуткой, однако прошлась по армии, занозистой оказалась. После нее мы стали кое-что как бы на вес прикидывать.
…Мне было известно про Косыгина несколько историй сердечных, добрых. Одну из них я слыхал от Михаила Михайловича Ковальчука, врача на Ладоге. Я попробовал напомнить ее, но Косыгин безучастно пожал плечами. Похоже, что забыл.
И про мальчика, умиравшего на проходной Кировского завода, забыл, как нестоящее, как слабость души. А ведь возился с ним. Видимо, то, что не имело отношения к делу, память его не удерживала, отбрасывала.
Наверное, чтоб отделаться от меня, рассказал, как в одном из писем отец попросил проведать их ленинградскую квартиру. Родители эвакуировались, квартира стояла пустая. Заодно, писал отец, пошарь в полке над дверью. К счастью, дом уцелел, квартира уцелела. Стекла, конечно, повыбивало, стены заиндевели. Косыгин встал на табурет у входной двери, сунул руку в глубину полки и вытащил оттуда одну за другой чекушки водки. Оказывается, у отца был обычай на Новый год прятать «маленькую» на память о прожитом годе. Извлек оттуда бутылочки еще царской водки, с орлом. Целый мешок набрал, потом в Смольном всех угощал.
Вот то личное, что вспомнилось. Все чувства сосредоточены были на Деле. Насчет Дела он мог рассказывать сколько угодно.
Шел девятый час вечера. Я завидовал его выносливости. Меня сморил напряг этого кабинета, вымотали сложные извороты нашего разговора. Пора было подниматься и благодарить: нельзя же отнимать столько времени, да еще после рабочего дня, и всякое такое. Косыгин встал, пожелал успеха в издании книги. На это я сказал, что со второй частью у нас будут трудности. По поводу первой части наш ленинградский партийный руководитель заявил, что никому такая книга не нужна, что ленинградская блокада — это прежде всего подвиг и геройство, а мы зачем-то описываем страдания людей, лишения, смерти. Такие примеры ничему не учат. Его слова, конечно, поспешили передать нашему московскому издателю, и тот, человек чуткий к начальственному мнению, попятился.
— Только геройство признает, — сказал Косыгин. — Знаток, — и он вложил в это слово ту иронию, с какой мы, фронтовики, слушали военные рассуждения гражданских.
— И никто не вступится, — обрадовано сказал я, помогая, подталкивая его, Косыгина. «Ну это мы вам пособим, поможем», — должен был ответить он. Первую часть он читал, после чего и выразил согласие встретиться. Следовательно, возражений не имел. Разве он не мог дать отповедь и нашему начальству, и кому угодно! Пристыдить, подтвердить. Достаточно было поручить своему помощнику позвонить в издательство. И все. Вопрос был бы решен…
Но на его узловатом лице не появилось никакого сочувствия, наоборот, оно лишилось всякого выражения, осталось каменное равнодушие, как будто не было ни этой встречи, ни нашего блокадного братства, как будто перед ним посторонний, докучающий своими просьбами. Он отвергающе покачал головой. Вмешиваться он не станет. Издательства не по его части. И все. Рука его была теплой, бескостно-мягкой.
Молча мы с Б-вым миновали застеленные дорожками коридоры, лесенки, переходы, охрану. На Красной площади горели прожектора. По мощеной брусчатке растекалось вечернее глазеющее брожение приезжих. Было просторно, свободно, шумно. С облегчением вдыхал я этот чадный, бензиновый воздух. Потянулся затекшим телом, подвигал лицом, почувствовал, как внутри расслабляются, отходят натянутая до предела душа и всякие нервные устройства.
Б-ов тоже расправил плечи, вынул платок, вытер шею, затем трубно высморкался, укоризненно понаблюдал мои гримасы.
— Эх, мил-человек, ручался я за вас, хлопотал, а вы…
— Что я?
— Подвели. Вопросики ваши! Что ни вопрос — как в лужу. Всякий раз в неудобное положение ставили. Неужели не чувствовали? А меня от стыда потом прошибало.
— За вопросы? Да? А за ответы?
— Разве тактично спрашивать о разногласиях с Ждановым? Вы должны понимать: Жданов в то время был членом Политбюро.
— А Косыгин?
— Не был.
— И что с того? Теперь-то он…
Б-ов рукой махнул, весь скривился от невыносимого моего невежества. Есть правила, есть субординация, существует, наконец, этикет, если угодно, церемониал. И насчет личного не принято у людей такого ранга выспрашивать. Где вы слыхали, где читали, про кого, чтобы вам раскрывали, допустим, их настроения, болезни? Извините. Не положено… Значит, есть тому основания.
О чем он? Моя беда другая — слишком стеснялся! Стыда много, вот и вылез голодным из-за стола. Разве это вопросы? Косыгин и без моих вопросов сам себя за язык держал. Сам себе не доверяет. У него никто ни в чем не виноват, не было ни столкновений, ни промахов, миллион ленинградцев погибли, и все было безупречно. Кроме фашистов никто ни в чем не виноват. Нам с Адамовичем говорили: стоит ли ворошить, важно, что город отстояли, не в цене дело, победителей не судят, виновных искать — правых потерять, и всякое такое. Мы так надеялись на Косыгина, а он чужие грехи стал прикрывать. Зачем? К чему было то и дело приписывать свои заслуги Военному совету, предупреждать, чтобы не упоминалось лишний раз его имя. Неужели не известно, что литература имеет дело с человеком, а не с организациями! Какая тут к черту скромность, все кругами, в обход, на цыпочках, как бы не задеть, не дай бог, не вспугнуть летучих мышей и ту нечисть, которую навоображали себе…