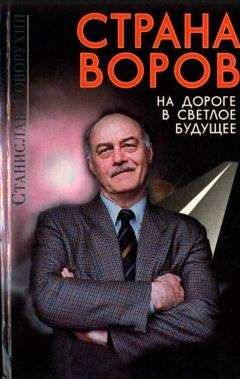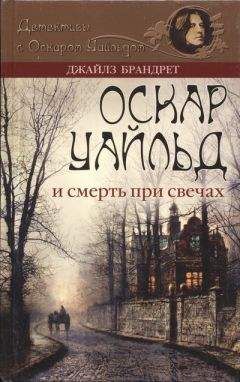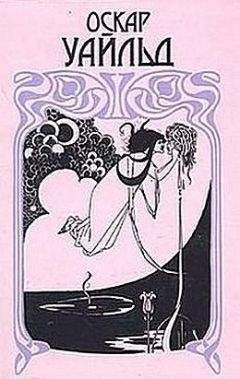Разговариваю с убийцей. Молодая наглая рожа, ни капли раскаяния в глазах. А ведь только что лишил человека жизни!
— Ну че зыришь? Не видал таких? — смеется. — Нравлюсь?!
Обратно едем всемером в тесном милицейском «Уазике». Кинокамера, штатив — на коленях. Сопровождающий нас капитан посмеивается:
— Привыкайте. Мы и ввосьмером, и вдесятером ездим, на головах друг у друга сидим. А то — пешком.
— На происшествие?
— Ну а куда же…
Сидим в дежурной части, ждем звонков. Дежурный по городу спрашивает:
— А что вам хотелось бы снять?
— Нас все интересует. Предположим, квартирную кражу.
Дежурный посмотрел на часы:
— Кражи уже кончились. Сейчас грабят и убивают.
Оглядываю убогое помещение, примитивную аппаратуру. Спрашиваю:
— А компьютеры у вас есть?
Дежурный смотрит на меня, как на Иванушку-дурачка. Вмешивается другой милиционер, следователь прокуратуры:
— У нас машинок пишущих нет, не хватает. А вы — компьютеры!.. Бывает, приедешь с «убийства», до чего только не дотрагивался там, а руки вымыть нечем — нет мыла!
В следственном изоляторе познакомился с женщиной, молодой матерью.
— Ой, не снимайте меня, — кокетничает она перед камерой. — Я сегодня плохо выгляжу…
Двоих своих крошечных ребятишек она решила убить самым «простым» способом. Перестала их кормить и поить. Дети плакали, кричали, пока были силы. К несчастью, никто их не услышал. Соседи неладное заподозрили поздно.
Один ребенок умер, второй был похож на узника концентрационного лагеря.
…Нет, не согласимся мы с утверждением покойного Ламброзо, что в физиономии человека есть характерные признаки, обличающие садиста и убийцу. Ни один физиономист не угадал бы в этом милом рыжем мальчике убийцу. Хорошее лицо, чистый взгляд. Коренаст, плотен, подвижен. Шутит, посмеивается, подает руку «жертве». Идет следственный эксперимент. Преступник (Смирнов, 21 года) показывает, как они с товарищем, Инсаровым, убили девушку. Сначала ее изнасиловали — вчетвером. Потом отвезли на мотоцикле в лес и там убили. Причем вырывали друг у друга нож — ударить хотелось каждому.
Девочка была с их улицы, они ее знали с детства. Смотрю на фотографию погибшей: прелестное личико, семнадцать лет… И никакой печати смерти во взгляде.
— Как вы себя чувствовали после того, как убили ее? — спрашивает следователь.
— Нормально, — отвечает юный убийца. — Как обычно.
— А что вы делали потом, когда приехали домой?
— Купили на Пролетарке две бутылки вина. Выпили. И поехали кататься на мотоцикле.
Для тех, кто видит корень зла в отечественной организованной преступности — доморощенных рэкетирах, коррупции на уровне директоров предприятий, — хочу еще раз повторить: вот она, настоящая преступность! Страшная и неостановимая.
Вспоминаю еще одно подобное преступление — этим же летом в городе Енисейске. Цитата из записи допроса:
«— Как у вас возникло намерение совершить убийство?
— Мы посмотрели видеофильм. Вышли из зала, и нам захотелось кого-нибудь убить…».
Два мальчика сели в попутную машину, выехали за город и нанесли водителю пятьдесят восемь ножевых ран. Агонизирующая жертва укусила одного из них за палец. За это они выкололи умирающему глаза.
На встречах со зрителями меня иногда спрашивают:
— А не виновато ли во всем, что происходит на наших улицах, кино? Нет ли здесь «заслуги» кинематографа?
Раньше я оправдывался: мол, у них, на Западе, такого «кина», где есть и секс и насилие, гораздо больше, а ничего… не задыхаются от уличной преступности.
Но теперь чувствую: был не прав.
Может быть, действительно хватит? Нам не удалось обогнать Америку по мясу и молоку. Но по количеству секса и насилия на экране мы ее обогнали мгновенно. За год-полтора, едва нам все разрешили.
Не пора ли остановиться? Все же у нас, в нашей стране, ситуация другая. И мы не ощущаем всей глубины той нравственной пропасти, в которую опустились. И того, что при больших допущениях можно Там, но нельзя Здесь? Среди нас, оказавшихся в нижней точке столь горького и бесславного падения, должны действовать более строгие нравственные законы. И всем нам вместе предстоит длительный нелегкий путь наверх.
Не пора ли поэтому начать говорить — неустанно, не боясь наскучить — о понятиях, до сих пор невостребованных: чести и благородстве, достоинстве и мужестве?! О том мужестве, когда мужчина бросается на выручку ребенку или женщине, не думая о последствиях. А то у нас скоро будут насиловать среди бела дня на Манежной площади и никто не отважится на защиту.
Мы пробыли в Перми недолго. Рядом, всего в двухстах километрах вверх по Каме — город Березники. Я там родился. Но жил недолго, вскоре был увезен родителями на Волгу: И сейчас захотелось посмотреть родные места.
Разбитая грейдерная дорога связывает два крупных промышленных города. Она вьется по левому берегу реки, иногда взмахивает на пригорок, и оттуда виден всхолмленный горизонт, зеркальные извивы Камы, голубые бескрайние леса. Огромная страна.
Огромная богатая страна! Леса, воды, пушнина, рыба, чуть не семьдесят процентов мировых черноземов, колоссальные минеральные богатства — нефть, газ, редкие металлы, золото… И нищета! Удручающая, лишающая достоинства нищета.
— И сколько же вас живет в деревне, бабушки?
— Три человека.
— А молодые есть?
— Нету молодых.
— Чем же вы питаетесь? Магазина-то нет.
— В Пермскую ходим.
— Это сколько километров?
— Пять.
— А огород есть?
— Есть. Как же без огорода…
— Что у вас в огороде растет?
— Морковочка, лук, картошки.
— А молоко где берете?
— Нету молока.
— Как жизнь, бабуси? Хуже, лучше — в последнее время?
— Ой, лучше!.. В десять раз хуже.
— Про перестройку-то слышали?
— Перестройка-то и настроила, что покушать нечего.
— Сахарку-то нет? Чайку попить не с чем?
— Перестроила перестройка. Это не перестройка, а… Сказала бы, да рот после этого крестить надо.
— А мыло-то есть?
— Ни у кого ничего нету. Ничего нету, миленькие! Плохая жизнь стала…
— Совсем никудышная.
— А раньше все было. Покушать-то было чё. Пойдешь сахарок купишь… Квасок сделаешь, попьешь, пьяненькой напьешься. Раньше конфетки купишь, прянички, а сейчас ничего нету.
— А откуда про перестройку слышали?
— Радио-то говорит.
— Что говорят?
— Хвалятся. Заседание идет… Говорят, пенсию добавить хочут…
— Ну и на что же ее сейчас хватает?
— На что — на хлеб! Картошку я сама сажу…
— Дай вам Бог долгой жизни, бабушки! Может быть, жизнь к лучшему изменится.
— Нет, хуже еще будет.
— Думаете, хуже?
— Хуже. День ото дня все хуже и хуже… Вот такой у нас состоялся разговор с двумя старушками по дороге. Когда садились в автобус, одна из бабушек спросила:
— Президент-то, он в Москве правит?
— Почему в Москве? В стране.
— Вы уж скажите ему, что чайку-то не с чем попить.
— Неладная, мол, жизнь-то стала. Скажете?
— Обязательно скажу, бабуси. Обязательно!
Магазин, о котором мечтали-тосковали эти две милые уральские старушки, мы встретили буквально на следующее утро. Там было все то, чего они так долго не видели в своем магазине, расположенном в пяти километрах от их деревни. Пряники, конфеты, мед, варенье, мясные консервы, хозяйственное мыло. К сожалению, старушкам нашим вход туда воспрещен. И не потому, что далеко — не за тридевять земель от них. А потому, что — ворота туда железные и часовой стоит у входа.
Магазин расположен на территории женской колонии строгого режима.
— Давно вы здесь?
— У-у, я старая каторжанка. Что такое свобода, и не знаю.
— Сколько же вы сидите?
— Сорок пять лет.
— Сорок пять?!
Разные сидят в колонии люди. С тяжелыми статьями, с более легкими. С тремя-четырьмя судимостями. С десятком и поболее. Есть и убийцы. Но основной контингент — за воровство.
Красть начинали по-разному. Но толкало на воровство одно и то же: нищета, убогий быт, бездушие окружающих.
— Сколько тебе было лет, Нел я, когда ты села?
— Девятнадцать.
— А сейчас?
— Тридцать три.
— Шесть лет тебе осталось сидеть? В сорок выйдешь на свободу… Между сроками ты была на свободе?
— Почти нет.
— Детишки-то есть?
— А зачем они мне? Вот еще морока. Зачем они мне?
— Ты из детдома, Неля? А почему мать отдала тебя в детдом? Она что, пила?
— От горя кто не запьет. Нас девять человек у нее было. Как муравьев. Надо всех и одеть, и обуть. Она одна тянула. Отец сидел…
Неля выйдет отсюда в сорок лет. Через месяц-два вернется обратно. Большинство снова возвращается в колонию. Трудно с судимостью устроиться на работу. Трудно привыкнуть к честной жизни. Да и не намного слаще на воле, чем здесь. Тут хоть трехразовое питание и чистые крахмальные простыни. А как живут наши знакомые старушки неподалеку, мы видели.