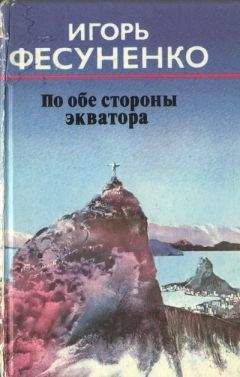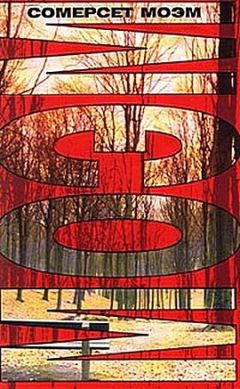И заметьте, что почти все великие тореро были из Андалузии! — с гордостью говорит, закуривая трубку, сеньор Карлос. — Например, Пепе Ильо — самый выдающийся мастер XVIII века, создатель так называемого «севильянского» стиля, более легкого и грациозного по сравнению со школой Ронды, основанной семейством Ромеро. Он погиб на мадридской арене, а трауром была охвачена вся страна.
— Значит, в прошлом веке коррида уже была совсем как сегодняшняя? — спрашивает Дунаев. Кажется, это первый его вопрос, обращенный к сеньору Карлосу. Вообще-то Дунаев — скептик. Он еще недавно работал нашим корреспондентом в Лондоне. И поэтому его, как настоящего «англосакса», все эти латинские страсти-мордасти: мулеты, корриды и капы — не очень-то волнуют. Но энтузиазм сеньора Карлоса, похоже, начинает заражать и невозмутимого Владимира Павловича.
— Нет, это не совсем так. Сто или даже пятьдесят лет назад коррида была куда более опасной, чем сейчас. Тореро погибали и получали увечья чаще, чем нынче.
Дело в том, что тогда они работали с быками-пятилетками, вес которых достигал шестисот килограммов. Такой гигант утомлялся гораздо меньше, чем четырехлетки, которых ввел в корриду Хуан Бельмонте уже в нынешнем веке. Это новшество сделало корриду более артистичной и, я бы сказал, изящной. Особенно после того как после дебатов было решено, что лошадей под пикадорами следует защищать толстыми предохранительными накидками. А ведь совсем недавно — я еще очень хорошо помню эти бои — лошадь была беззащитной, и буквально в каждой схватке бык вспарывал ей брюхо. Это было весьма удручающее зрелище: бедное животное бьется в конвульсиях, арена залита кровью, внутренности — на песке!
Проходим в следующий зал, сеньор Карлос показывает пожелтевшую афишу 1886 года:
— Как вам нравится это?
Читаю обычный текст приглашения на корриду и с изумлением вижу среди ее участников женское имя: Долорес Санчес Фрагоса.
— Да, да, бывало и такое… Но женщина-тореро — это глупость. Это, извините, извращение. Место женщины — на трибуне, с белым платочком в руках, чтобы приветствовать удачливого тореро, чтобы вдохновлять его, поощрять и воодушевлять!
Мы рассматриваем плащи и шпаги, пожелтевшие фотографии и мощные муляжи бычьих голов. Эту коллекцию начал собирать еще сто лет назад отец Карлоса, и теперь в Севилье, а может быть, и во всей Испании не найдется частного собрания, которое могло бы сравниться с сокровищами поместья «Хуан Гомес».
А потом я задаю вопрос, который для каждого испанца, если он, конечно, настоящий испанец, является едва ли не главным вопросом бытия. Альфой и омегой. Началом всех начал… Выпуская джинна из бутылки, я спрашиваю сеньора Карлоса:
— А кого вы считаете лучшим тореро всех времен?
Карлос задумывается. В его глазах вспыхивает огонь.
Он расправляет плечи и, как лайнер, идущий на взлет, начинает отвечать не спеша, а затем набирает скорость:
— Не берусь утверждать категорически… Боюсь, что единого мнения на этот счет нет. Одним из лучших был, на мой взгляд, Бельмонте. Очень любил я нашего земляка Хоселито. Хорошо помню его последний бой в двадцатом году в Талавере. Ему было тогда всего двадцать пять лет. Он погиб, вспоротый рогом. А Манолете? Великий Манолете, с которым никто не мог сравниться по элегантности работы, по особой, свойственной только ему грации движений, по умению пропустить быка в сантиметре от себя и не сдвинуться, не шелохнуться! Он тоже погиб на рогах быка в сорок седьмом году в Линьяресе. Тридцать лет ему было, но вряд ли кто может сравниться с ним по количеству заработанных ушей и хвостов! Вы ведь знаете, сеньоры, что по требованию публики отличившийся тореро может быть награжден по окончании корриды отрезанным у быка ухом или — как высшая награда — хвостом?
…Он говорит долго и вдохновенно. Это, впрочем, уже не рассказ. Это гимн тавромахии. «Песнь песней» мужеству людей, выходящих на схватку с неукротимым и грозным животным, которое побеждает всех зверей, кроме, может быть, слона. Имена тореро, клички быков, названия «пласа де торос», факты, события, даты, подробности…
Если бы все это записать, получилось бы нечто вроде энциклопедии испанской корриды. Говорю «испанской» потому, что коррида практикуется еще и в ряде стран Латинской Америки, а также в Португалии, где она, впрочем, сильно трансформировалась: португальские тореро (в Португалии они называются «форкадуш») быка не убивают. Их задача — побороть животное, лишить его возможности двигаться. И выполняют они эту чисто спортивную функцию целой командой: полдюжины «форкадуш» дружно бросаются на быка с подпиленными рогами.
Когда, желая блеснуть эрудицией, я упоминаю об этом, сеньор Карлос возмущенно подымает брови и испепеляет меня негодующим взглядом. Да, конечно, он видел однажды это анекдотическое представление, недостойное ни настоящего мужчины, ни настоящего быка. Но разве эта португальская клоунада имеет что-то общее с темой сегодняшнего разговора: с благородной корридой бессмертных Домингина, Пако Камино или Кордобеса?!.
Я чувствую, что сеньор Карлос уязвлен в своих лучших чувствах. Но благородство и воспитанность, присущие ему как настоящему испанцу, помогают перебороть неприязнь, вспыхнувшую в его сердце после упоминания об «этих португальских паяцах». Он приглашает нас подняться на второй этаж в библиотеку. Мы послушно следуем за ним по скрипучей деревянной лестнице. В застекленных шкафах, на полках и стеллажах — энциклопедии и учебники, комплекты журналов, рекламные брошюры и научные труды. На одной из полок — портрет Хемингуэя.
— В России знакомы с корридой в основном по его книгам, — говорю я. Сеньор Карлос улыбается и пожимает плечами:
— Это, конечно, лучше, чем ничего, но все же маловато. Старик был гениальным писателем и очень любил корриду, но вряд ли будет справедливо полагать, что он хорошо разбирался в быках. Впрочем, а кто в них разбирается? Наверное, никто. Я занимаюсь быками уже пятьдесят шесть лет, а все равно не знаю о них все, что следовало бы и что хотелось бы знать.
Он берет со стола большой альбом с фотографиями быков, перелистывает его:
— Посмотрите, какой красавец? А этот?.. Разве есть что-нибудь в природе, сравнимое с такой красотой?
Мы дружно киваем головами и соглашаемся, что ничего подобного никогда не видели. Карлос удовлетворенно улыбается и закрывает альбом. Как стопроцентный андалузец, он великодушен и добр: чувствую, что он уже простил мне неудачную импровизацию на португальские темы.
— А почему бык не любит красный цвет? — спрашивает Ирина.
— А кто вам сказал, что он его не любит? — поднимает бровь сеньор Карлос.
— Все говорят, — смущенно улыбается Ирина. — Разве не потому плащ у тореро — красного цвета. Разве это сделано не для того, чтобы бык кидался именно на плащ?
Сеньор Карлос тяжело вздыхает. Он впервые осознал всю глубину нашего невежества:
— Бык ничего не имеет против красного цвета. И бросается он на мулету — или, как вы, дорогая сеньора, изволили выразиться, на «плащ» — отнюдь не потому, что она — красная, а потому, что она двигается перед ним, полощется из стороны в сторону. Бык бросается не на цвет, а на движение. Именно поэтому тореро может работать с быком, именно в этом — залог его безопасности: животное привлекает не цвет мулеты, а движение, не неподвижная фигура тореро или пеона, а трепещущая мулета.
— Бывают ли случаи, когда быка на корриде не убивают? — спрашиваю я.
— Очень редко. Один раз на тысячу. Так случается, когда публика требует пощадить животное в награду за его мужество и ловкость в поединке.
— А второй раз этого быка выпустят на арену?
— Ни в коем случае. Дело в том, что бык умней человека. Он быстро усваивает правила игры и, если его выпустить снова, пойдет не на мулету, а на тореро. И убьет.
Карлос Уркихо замолкает, любовно разглядывая нависший над лестницей муляж великолепной бычьей головы.
— Если позволите, я тоже хотел бы сказать, — обращается к нам Фернандо — помощник Карлоса, молчаливо сопровождавший нас в этой экскурсии. — Бык характером всегда похож на своего ганадеро — хозяина. Потому что ганадеро подбирает стадо по своему вкусу. Выбирает самок с особым характером, с психологией. И эта психология передается рождающимся бычкам. Вот у нас на финке — восемьсот быков. Это не обычные быки. Они преисполнены гордости. Они отличаются благородством и чувством собственного достоинства, они великодушны и умны.
— Вы это… что: серьезно? — спрашивает Дунаев, подняв правую бровь.
— Да, вполне! — с достоинством отвечает Фернандо, игнорируя иронию Владимира Павловича.
— Боже мой! — тихо шепчет потрясенная Ирина. Она — друг животных. Она начисто лишена англосаксонского дунаевского скепсиса. Она восхищена тем, что слышит.