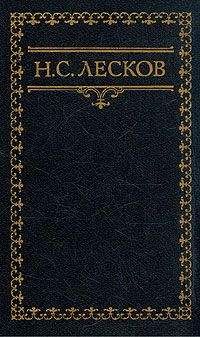Н. Лесков.
Опять – четвертую работу со мною я должен был уступить не Вам, а другой художнице… Ну, не досада ли видеть, как Вы «подвизаетесь»!..
На меня можете сердиться сколько хотите, – я желаю Вам добра.
18 марта 1891 г., Петербург.
Достоуважаемый Виктор Александрович!
Удовлетворяя своему желанию, я познакомился с Потапенко, а исполняя Ваше поручение, делал пробу привлечь его к сотрудничеству в «Рус<ской> мысли». Вот Вам мой отчет: Потапенко произвел на меня как раз такое приятное впечатление, какого я хотел, чтобы симпатии мои к нему не были нарушены: он умен, у него во всем чувствуется художественная простота и чувство меры, хороший вкус и благородство, чуждое искательства. Я думаю, что он может принять равнодушно хвалу и клевету и будет идти независимым путем. Словом – он мне понравился более всех, кого я видел привходящими в литературный кружок за последние 25 лет. По поводу его появления в Петербурге можно радоваться, без боязни за то, что радость эта будет обманута и унижена. Возраст его лет около 30; темперамент горячий и впечатлительный, но не слабонервный. Работает он много и недостатка в работе не ощущает, а, напротив, имеет на нее очень большой спрос. Поэтому приглашение его написать «что-нибудь» для «Р<усской> м<ысли>» – для него ничего особенно лестного не представляет. Платят ему здесь по 150 руб. лист и, вероятно, заплатят и дороже; а работать в том же городе, где живешь, конечно, удобнее, чем посылать работу вдаль. Но мне кажется, что Вы могли бы привлечь Потапенко с большою для себя пользою и с очень малым риском, если бы нашли возможным такую комбинацию, какую сделал Катков со мною, когда я писал «Соборян». У Потапенко есть желание написать роман, а я ему указал на то, как делали со мною, то есть давали мне аванс в течение трех месяцев и я сдавал редакции три печатных листа рукописи и так продолжал до конца романа; а окончательный расчет произвели по напечатании. Он нашел, что это для него было бы, может быть, удобно теперь, перед весною, чтобы летом заняться большою работою, и на этом разговор наш кончился. Обсудите это в самом темп-мажоре, и если найдете для себя подходящим, – напишите мне или прямо самому Потапенко. Зовут его Игнатий Николаевич, а адрес его: Фонтанка, № 24, кв. 45.
Кстати: о рассказах Потапенио не делают отзывов «Нов<ое> вр<емя>» и «Р<усская> м<ысль>», и это его не смущает и не огорчает… Я был этим очень утешен. Это порука за то, что художник любит свое дело больше похвал, и это редкость при нынешнем попрошайничестве, которое стало уже просто гадко и подло.
Преданный Вам
Ник. Лесков.
27 марта 1891 г., Петербург.
Любезный друг Боря!
В переводе твоем находят хорошее, но указывают и довольно многие недостатки, заключающиеся по преимуществу в изобилии деепричастий и прозаических оборотов; но что самое главное – это наличность множества переводов «Паризины», известных в печати. Представляется даже удивительным: почему ты взялся за перевод именно этого – всех более переведенного произведения! Не можешь ли ты мне этого объяснить. Может быть, ты хотел добиться чего-нибудь такого, что тебя не удовлетворяло в переводе Михаловского и др. Или это так… просто – «случайный выбор»?
Потом ответь ясно на вопросы:
1) Желаешь ли, чтобы перевод твой был напечатан там, где удастся его поместить?
2) Согласен ли на поправки в стихах? (что совершенно необходимо).
3) Доволен ли будешь всяким гонораром, какой дадут?
Н. Лесков.
3 апреля 1891 г., Петербург.
Любезный друг Боря!
Получив твое письмо с уполномочиями на помещение твоего перевода «Паризины», я отдал рукопись редактору «Иллюстрации» Александрову, прося его напечатать перевод твой в книжке их приложений, которые называются «Труд». Книжки эти выходят раз в месяц, и в этом журнале была напечатана моя, вероятно известная тебе, «Фигура». Александров обещал дать мне ответ скоро, и я его тебе сообщу немедленно.
Перевод Михаловского напечатан в издании Гербеля. Переводы Козлова знатоками считаются за отменно хорошие и образцовые. Я же в этом деле не судья. А что касается до выбора пьес для перевода, то самое лучшее (по моему мнению) – переводить то, что тебе понятно по духу поэзии и дается по форме стиха. Аверкиев перевел этой зимой «Гамлета», имеющего несколько переводов, но как аверкиевский перевод оказался всех совершеннее, то о нем говорят и его хвалят, но никто не спешит приобрести его для напечатания. То же самое, вероятно, выпало бы на долю перевода и всякой другой пьесы, имевшей уже переводы в печати, но кто любит дело, того это не должно останавливать. Я только не знаю: для чего всё переводить стихи? Почему не переводить хорошую прозу? От стихов теперь везде тесно делается, и они составляют для журналов «бремя». Я поговорю с издательницей журнала «Иностр<анная> лит<ература>», – нет ли у нее чего-либо ей желательного для перевода из поэтов, и тебе напишу.
Будь здоров.
Твой Н. Лесков.
12 апреля 1891 г., Петербург.
Редактор «Иллюстрации» обещал мне ответ «на сих днях», но еще не прислал его. Я опять ему напомню и тебе напишу. Надеюсь, что дело уладится. Указываю тебе на следующее: в последней книжке «Недели» есть хорошая (сведущая) критическая заметка о новой книге Балабиной – переводы в прозе стихотворных легенд Оссиана, изданных Макферсоном. Они очень характерны, и переводы их трудны, и их мало. Обрати внимание на эту книжку и выбери что-нибудь у Оссиана и пришли. Большие вещи помещать трудно, пока имя переводчика неизвестно. Я всегда буду рад сделать тебе услугу.
Н. Лесков.
Макферсон по-английски есть у Уаткинса (Адмиралтейская площадь), а прозаические переводы Балабиной есть и в Киеве.
4 мая 1891 г., Петербург.
Достоуважаемый друг!
Поездка наша вместе не состоялась, потому что я был болен и расстроен до того, что не мог и писать. Вы мне это, пожалуйста, простите. Это отнюдь не значит, что я Вас мало люблю или мало дорожу сношениями с Вами; а это значит, что моя душа была невозможно отягощена впечатлениями, с которыми я не в силах был справиться и о которых нечего рассказывать. Как Вы съездили и где проведете лето? – хотел бы знать. Но главное дело. Мне не хочется ничего посылать в «Р<усскую> м<ысль>», так как, по моему мнению, там худо понимают достоинство литературных произведений, а мне нет никакой нужды и никакой радости испытывать на себе их ответы и упражнения. Вы меня просили дать еще раз что-нибудь «Рус<ской> мысли», и я не хочу обойти Вашей просьбы. За это время я написал небольшую повесть, в 5–6 листов, которую уже и продал здесь (и она у Вас не прошла бы), и еще «Воспоминания», тоже листа на 4. Воспоминания эти называются: «Нашествия варваров»; построены они по рассказам Жомини и представляют Ашинова, М-ву дочь, болгар и наших патриотов и борьбу с ними дипломатии. Эпизод веселый и смешной. Написано это так, как умею я и как пишу, – ни лучше всего, ни хуже. Покупателя на это имею здесь в лице Шубинского и выгоды отдавать работу Вам никакой не имею, а, напротив, имею неприятность вспоминать старые неприятности и возможность ожидать новых в том же или в подобном роде, но я не хочу огорчить Вас и оставить втуне Ваше желание удержать связь мою с журналом, где Вы трудитесь. Поэтому я должен избрать такой путь, который был бы Вам удобен и для меня не унизителен и безопасен. Рукопись для предварительного прочтения и оценки я послать в «Рус<скую> м<ысль>» не могу, так как это не одобряется моими опытами из прошлого, и мне противно подумать об этом; но я сообщаю Вам, что вещь есть и что я готов уступить ее «Р<усской> м<ысли>», если редакция имеет ко мне столько же доверия, как и к другим, у кого принимает вещи недописанные или вовсе еще не написанные.
Мои воспоминания интересны, – и это все, что я сам могу о них сказать, и они готовы. Если хотите их получить, – потрудитесь сговориться об этом с триумвиратом и ответьте мне не позже 10 мая, с присылкою мне авансом 500 рублей. Тогда я в тот же день вышлю Вам совершенно готовую рукопись в Ваше распоряжение. Иначе я поступить не могу, так как не хочу рисковать там, где мне было оказано четыре раза самое нелепое отношение. И Вы, – если захотите быть справедливым, – сами, вероятно, найдете, что в этом условии нет ничего грубого и обидного для редакции, которая во всяком разе должна дать мне «сатисфакцию». Словом, иначе я не могу идти на реставрацию моих отношений с журналом, меня оскорбившим. То, что я даю, – то такое, какое оно есть, и поправлять его некому, а надо его брать и печатать, как воспоминания Михайловского или работу Потапенко. Другого средства со мною сделаться нет, и обиды в этом для «Русск<ой> мысли» нет. Я предлагаю Вам все, что могу и как позволяет мне чувство моего доверия к тщательности моих работ.