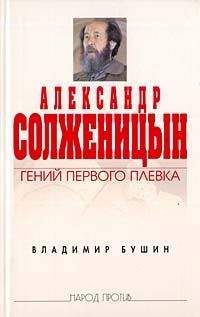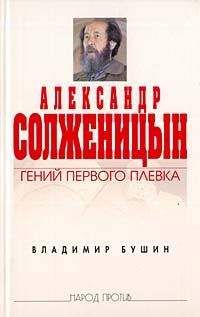Впрочем, подлость революции и коммунистов Распутин видит гораздо глубже. Для разъяснения этой тайны писатель обращается к упомянутому выше пушкинисту: «В одной из последних статей Валентин Непомнящий сказал, что роковой ошибкой большевиков было то, что они не стерли с лица земли русскую классику и позволили ей спасти культуру XX века и тем самым спасти Россию» (там же). Поняли? Цель-то коммунистов состояла в том, чтобы истребить искусство, литературу, а идея — уничтожить Россию, но они почему-то роковым образом оплошали, промешкали, не выполнили директиву Агитпропа и только благодаря этому позволили России спастись. Вот какой душевный консенсус у Валентина Григорьевича с Валентином Семеновичем… Полезно друзьям Валентинам, поскольку оба они оказались непомнящими напомнить и о том, что при коммунистах все семьдесят лет, начиная с 1918 года, вопреки «директиве Агитпропа» издавались-переиздавались невиданными в истории тиражами не только русские классики и советские писатели, в том числе В.Г. Распутин, но и писатели всего мира — от Гомера до Кафки, не к ночи будь помянут.
Однако вернемся к статье В. Нилова и к протесту против нее трех членов редколлегии. По-моему, редакция поступила разумно: пригласила высказаться читателей. Они живо откликнулись, их письма напечатаны в восьмом номере журнала за прошлый год. Причем в противоположность несокрушимо согласному хвалебному хору пяти литературных знаменитостей, о котором говорилось, на этот раз редакция дала возможность выразить разные точки зрения. Разумеется, у Солженицына нашлись почитатели, но, увы, доводы их оказались однообразны и неубедительны, главный из них — «патриоты бьют по патриотам».
Но в целом в подборке писем преобладали совсем иные суждения. Вот несколько выдержек. А.А. Сидоров: «Это общечеловек горбачевского типа, обладавший определенным талантом литератора, но растерявший его в антисоветской злобе… Я лично был бы совершенно безразличен к нему, если бы он в угоду русофобам не поддержал клевету на Шолохова…» С.И. Анисимов: «Этого „художника и мыслителя“ можно с полным правом назвать одним из самых заслуженных могильщиков страны… Никаких чувств, кроме ненависти, я к нему не испытываю… За то, что произошло у нас и с нами, вина его так огромна, что ему ничем ее не искупить, и он не заслуживает никакого снисхождения…» Софья Авакян: «Он — враг моей Родины. Он употребил все свои силы, весь свой холодный, расчетливый фанатизм на ее уничтожение, а потому он мой личный враг на самом сокровенном уровне моей души, такой же враг, как Гайдар, Чубайс, Ростропович. И я ненавижу его… Я испытываю почти физическую боль, когда пытаются прислонить его хоть каким-то бочком к Толстому…»
Казалось бы, достаточно было одного лишь напоминания о злобном и самом активном участии Солженицына в травле Шолохова, чтобы опомниться. Ведь Распутин же устно и письменно многократно объяснял нам великое значение творца «Тихого Дона» в нашей литературе и твердил о своей неизбывной любви к нему. А Солженицын давно исходит ненавистью даже к его внешности: «Невзрачный Шолохов… Стоял малоросток и глупо улыбался… На трибуне он выглядел еще ничтожнее». Одно это должно бы, как током, ударить руку патриота России и ее литературы, если она невзначай протянулась вдруг за премией.
На веку Солженицына были два огромных исторических события — Отечественная война и ельцинская контрреволюция. И в обоих случаях, все рассчитав, взвесив, устроив, он изловчился явиться с опозданием: на фронт попал только в мае 1943 года, после Сталинградского перелома, когда все определилось и война была уже совсем не та, что в 41-м, да и в 42-м; и вернулся из Америки лишь после того, как все определилось и стало для него вполне безопасно… А Шолохов всю жизнь был на переднем крае и своими бесстрашными хлопотами в 1932 году столько земляков спас от голодной смерти, столько в 1937 году вызволил из неволи, столько великого таланта, жара души, да и собственных денежных средств отдал на благо соотечественникам, что сказать о нем «палаческие руки», как Солженицын, мог только… Предлагаю читателям самим найти здесь подходящее слово для человека, способного на это: у меня цензурных слов нет.
Торжественная церемония состоялась в Доме русского зарубежья. «Гостей в зал набилось много, не все и сидели», — сообщает Бондаренко-младший. Всех их, «литературных и окололитературных», «VIP-гостей» и проныр-безбилетников, он, как ныне принято на таких церемониях в таких Домах, именует, разумеется, господами. Едва лишь порадовались мы тому, что господа в тесноте, но не в обиде, как вдруг тут же читаем о них: «Наверное, и те и другие чувствовали себя в этом „невольном“ объединении немного не в своей тарелке…» Я думаю! Вот, допустим, VIP-гость Андрей Вознесенский. Наверняка он чувствовал себя в чужой тарелке. Ведь учредитель премии сказал о нем когда-то: «Деревянное сердце! Деревянное ухо!» А он все равно тут как тут, и еще, того гляди, стихи напишет об этом. Он уже давно не оставляет без своей рифмы ни один юбилей, ни одно награждение, ни одни похороны.
Церемония началась, естественно, речами, по выражению того же автора, «двух знаковых русских писателей». Знаковый писатель А.С. говорил длинно и возвышенно. Он, разумеется, очень хвалил знакового писателя В.Р. Но как-то очень странно. С одной стороны, назвал его прозорливцем. Прекрасно! Но, с другой, заявил: «Он не ищет слов, не подбирает их — он льется с ними в одном потоке». Красиво, но сомнительно. Как это «не ищет слов»? Пушкин, о чем буквально вопиют его черновики, искал. Толстой, по нескольку раз переписывая романы и повести, искал. Блок искал. Маяковский божился, что изводил «единого слова ради тысячи тонн словесной руды»… Да ведь и сам оратор даже в этой речи буквально землю роет в поисках нужного словца, другое дело — всегда ли удачно. Например: «перепущен (!) срок отъезда», «война явно при конце» (!), «повествование просочено (!) сибирской натурой», то есть природой, «писатель натурально сжит (!) с природой», то есть натурально «сжит» с натурой, «писатель передает природу нутряно»… Даже о трагическом говорит так, что невольно становится смешно: «догружается неизбежность раскрыва беременности», «Настёна утепляется (!) в Ангаре»… Я не стану это обстоятельно комментировать (о языке живого классика у нас еще будет речь), а замечу только, что в том же номере «Дня» Виктор Топоров пишет: «Сатира Ильфа и Петрова, как прежде, бьет не в бровь, а в глаз»: «Инда взопрели озимые». Да разве все, что я привел, не того же пошиба?.. Так вот, все писатели, включая оратора, ищут нужные слова, и только один-единственный Распутин не ищет их, а как только возьмет перо в руки, так оно и скачет само по бумаге: трр… трр… трр… Полно, Александр Исаич, напраслину-то на человека возводить, изображая его литературным выродком.
Но еще удивительнее то, как он нахваливает повесть «Живи и помни»: «Валентин Распутин заметно выделился в 1974 году внезапностью темы — дезертирством, — до того запрещенной и замолченной, и внезапностью трактовки ее». Все тут — привычное для велосипедиста кручение колес. Никто тему дезертирства и предательства не запрещал, и вовсе не была она «замолчена». Еще в 1941 — 1942 годах печатались в многомиллионной «Правде», в «Красной звезде», в других газетах и передавались по радио произведения, в которых были и предатели и дезертиры, — таков, например, сильный рассказ Александра Довженко «Отступник». В те же годы написана и шла во многих театрах страны пьеса Леонида Леонова «Нашествие», в которой выведена целая галерея образов предателей: городской голова Фаюнин, его прихвостень Кокорышкина, фашистский холуй Мосальский, начальник полиции Федотов… А чуть ли не за пятнадцать лет до Распутина повесть, которая так и называлась — «Дезертир», опубликовал у себя на родине, а потом в Москве замечательный писатель, участник Отечественной войны Юрий Гончаров, живущий в Воронеже. И вот при всем этом, не моргнув глазом, благим матом: «Запретили! Замолчали!..» И ведь так всегда и во всем…
А в чем же «внезапность трактовки»? А вот слушайте: «В Советском Союзе в войну дезертиров были тысячи, и даже десятки тысяч, о чем наша история сумела смолчать…» Во-первых, откуда знать велосипедисту о «десятках тысяч», если в истории Великой Отечественной войны он так безграмотен, что даже, как видели мы раньше, не знает, где он сам-то воевал. Во-вторых, а с какой стати аж сама История должна заниматься хотя бы и «десятками тысяч» шкурников и трусов, оказавшихся в многомиллионной армии? У Истории есть дела поважней. И потом, уж чья бы корова мычала: сам нахваливает мастерство фашистских летчиков, афиширует бесстрашие и ловкость румынских диверсантов, а о героизме защитников Брестской крепости и Одессы, Москвы и Ленинграда, Севастополя и Сталинграда, о мужестве всей Красной Армии — не только «сумел смолчать», но и все это оболгал, уверяя, например, что в 41-м году мы бежали в панике по 120 километров в день, — да что ж тогда помешало немцам через две недели быть в Москве? И ведь сам Гитлер признавал уже в конце войны, что ни в одной кампании немецкая армия не одолевала в день больше 50 километров, и притом — лишь короткое время.