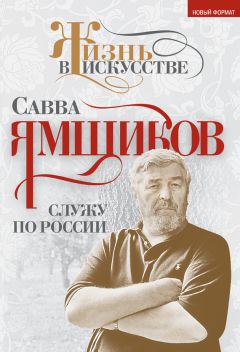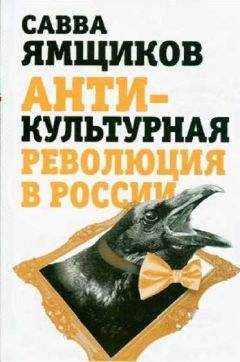И вот — после "Мертвых душ" и "Шинели" начинается непонятный, какою-то таинственной мутью подернутый период проповедничества и сжигания рукописей… "Выбранные места из переписки с друзьями" восхитили их издателя, Плетнева, и жестоко рассердили Белинского. Смутили же многих, даже друзей славянофилов. Когда Лев Толстой возьмется однажды перечитывать Гоголя, он бросит по этому же поводу очень "толстовскую" фразу, которая выдает и его смущение: "Гоголь — огромный талант, прекрасное сердце и небольшой, несмелый, робкий ум".
…Царство Гоголя. Причудливое. Диковинное. Необъяснимое. Виссарион Белинский вычитывает из этой невероятной прозы "реализм". (Это видение унаследуют и шестидесятники.) Слабое противодействие столь прямолинейному толкованию Константина Аксакова (он попытался "сдвинуть" восприятие поэмы Гоголя, сравнив "Мертвые души" с "Илиадой") — утонуло в издевках "неистового Виссариона". Для последнего сравнение Аксакова кажется нелепым уже потому, что Гоголь — как он полагал — гений "местного" значения, не всемирный, но только русский гений. Для России — необходимый. (До "гоголевской" реплики Адамовича, — "не знаю, что можно сравнить с этим и во всей мировой литературе.", — еще более полувека.) Проза Гоголя виделась Белинскому началом нового этапа в движении русской литературы. С "Очерков гоголевского периода" Чернышевского этот взгляд утвердился и "законсервировался". В Гоголе-художнике видели жестокого реалиста, в его проповеди — нелепый идеологический "вывих". Настоящий Гоголь мало походил на столь одномерное свое изображение.
Автор "Мертвых душ", "Портрета", "Шинели". Да чего он странен! В поведении, в творчестве. Чего стоит впечатление хотя бы Сергея Тимофеевича Аксакова, одного из ближайших друзей; когда он увидел Гоголя в гробу — был поражен, что в душе своей не ощутил не только потрясения, но даже маломальского волнения.
Гоголь словно и не был человеком. И за прозой Гоголя стояла совершенно нечеловеческая сила. Им восхищались. Но от него можно было и содрогнуться.
* * *
Первый, кто испытает мучительную тоску здорового человека, увидевшего инфернальную "изнанку" гоголевского мира, будет Василий Васильевич Розанов. "Как произошел тип Акакия Акакиевича?" — задаст он себе вопрос. И ответит: "…не ясно ли, что уже не сужение, но искалечение человека против того, что и каков он в действительности есть, мы здесь находим". А сам Гоголь. "С этими странными образами одними он жил, ими тяготился, их выразил; и делая это, — и сам верил, и заставил силою своего мастерства несколько поколений людей думать, что не причудливый и одинокий мир своей души он изображал, а яркую, перед ним игравшую, но им не увиденную, не услышанную, не ощущенную жизнь".
Товарищ Розанова и во многом с ним "однодум", Иван Федорович Романов, писавший под псевдонимом "Рцы" (название буквы "Р" в алфавите, который начинался с "аз, буки, веди" и, одновременно, призыв на старославянском: "реки", то есть "говори"), пытался переубедить мнительного Василия Васильевича:
"Гоголь не любил (как всякий добрый хохол) москаля и eo ipso внутрь москаля не мог и войти, видел только одну внешность, но внешность всегда мертва, отсюда действительно мертвые души, это огромная Ваша заслуга (что Вы указали), идиоты Вас не поняли, но будьте же умны и справедливы до конца: Гоголь есть творец или живописец мертвых душ в гостях, у москаля, а дома у себя он живописец живых душ: все эти Грыцки и Ганки суть живые души, а Пульхерия Ивановна есть чудный-чудный и может быть один из самых возвы-
шеннейших по-ло-жи-тельных типов". И — после нескольких словесных пируэтов, приятель Розанова завершил: "Гоголь не понял, что живую душу можно найти не только в Миргороде, или на хуторе близ Диканьки, но всюду, где есть православная душа, а понять он этого не мог, потому что не уприиде час".
Почти то же самое — "сойдемся на православии" — внушал и другой ценимый Розановым человек, Говоруха-Отрок…
Переубедить Розанова не удастся. С каждым годом тот ужас, который он испытывал, соприкасаясь с гением Гоголя, усиливался все более и более. И — в конце концов — Гоголь стал для него не просто пугалом, но загадочным погубителем России: великий писатель словно чародей внушил своим читателям, которых в России год от году становилось все больше — что изображенный им чудовищный мир и есть Россия:
"Вышел колдун, достал из лапсердака черную палочку и сказал: вот я вас коснусь, и станете вы все мушкарою".
Реальную Россию соотечественники вдруг увидели сумасшедшими глазами автора "Мертвых душ" и "Шинели". Мудрено ли, — печалился и страдал Розанов, — что, увидев на месте нормальной страны (со своими недостатками, но и со своими достоинствами) гоголевские хари, иной читатель готов был идти в революционеры, а "прочий", тот, что посмирнее, на сами идеи "потрясения основ" стал глядеть почти с сочувствием? Раз Россия — страна-уродина, населенная Собакевичами, Ноздревыми, Коробочками, раз она такова, каков Акакий Акакиевич с бессмысленным "жеванием слов" — то не лучше ли, чтобы этой страшной "дыры" вовсе не было? Не нужно ли это чудовищное царство смести с лица земли?
"Изнанку" Гоголя увидит и проницательнейший, тонкий поэт и критик Иннокентий Анненский: ".Ведь "Мертвые души" и точно тяжелая книга и страшная. Страшная и не для одного автора". Гоголь изумительно видел внешнего человека, не различая за его личиной человека внутреннего. "Типическая телесность Гоголя" потому "загромоздила" и "сдавила" его художественный мир. И Собакевич превращается во что-то вроде вещи, "самую типичность свою являя в последнем выводе лишь кошмарной карикатурой", и Ноздрев есть "какое-то неудержимое, какое-то сумасшедшее обилье" и "веселое безразличие природы", и Манилов весь — "в губах, в смачно-присосавшемся поцелуе". И здесь же, рядом — "люди-брови" и даже "люди-запахи". О воздействии автора "Мертвых душ" на современность Анненский скажет: "гоголевский черт никогда так вовсю не работал, как именно теперь".
О том же "инфернальном" Гоголе заговорит и Д. С. Мережковский. И само свое сочинение назовет "со смыслом" — "Гоголь и черт". Вглядываясь в Хлестакова и Чичикова, он увидит главную черту беса, изображенного Гоголем: он обыкновенен, усреднен, "не слишком толст, не слишком тонок".
Эту "серединность" беса, еще до Мережковского, ощутил Ф. М. Достоевский. В "Братьях Карамазовых" больному белой горячкой Ивану (сквозь кошмар) явится именно такой черт, "человеческий, слишком человеческий". И обыденный этот черт будет после долго разгуливать по русской литературе.
То, что художник чутким ухом и цепким глазом схватывал у предшественника между слов, мыслители и толкователи улавливали медленней, но зато и объясняли отчетливей.
В 1920-е годы и позже, когда реальный мир опрокинется, "встанет на голову", русская эмиграция — особенно мучительно пережившая (через кровь гражданской войны и потерю отечества) вселенский "излом" истории — легко согласится с "фантастичностью" и даже фантасмагоричностью Гоголя.
"Реализм"?… — ".Того помещичьего быта, который описан в "Мертвых душах", — пишет чрезвычайно чуткий к "странностям" мира прозаик Газда-нов, — Гоголь не знал. Девятнадцатилетним юношей он уехал в Петербург, где началась его литературная жизнь. Потом были — Москва, Рим, Париж, Флоренция, Неаполь, Германия, общество писателей, сановных людей, — все что угодно, но никак не помещичья Россия" (Гайто Газаданов).
Владимир Набоков, писатель этого же поколения, поражен силой гоголевского сравнения, которая не уточняет изображаемую реальность, но порождает иную. Хотя бы — голова Собакевича, которая одним своим видом в глазах Чичикова (или Гоголя?) порождает причудливый мирок:
"Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское, в венце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круг-
лое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья".
Набоков, прочитавший этот отрывок, будет поражен той "изнанкой", которая просвечивает сквозь мерцающую поверхность гоголевской прозы. Здесь — своя "цепная реакция" сравнений, расщепляющая внешнюю форму и рождающая маленький сюжетный взрыв: "Сложный маневр, который выполняет эта фраза для того, чтобы из крепкой головы Собакевича вышел деревенский музыкант, имеет три стадии: сравнение головы с особой разновидностью тыквы, превращение этой тыквы в особый вид балалайки и, наконец, вручение этой балалайки деревенскому молодцу, который, сидя на бревне и скрестив ноги (в новеньких сапогах), принимается тихонько на ней наигрывать, облепленный предвечерней мошкарой и деревенскими девушками".