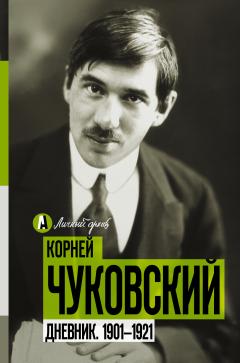А кандидат наук(!) М. рассылает по разным инстанциям гневные статьи и заметки, упрекающие меня в дикой безграмотности, восставая против таких якобы уродливых слов, как: мне сдается, угнездились, отшибить и т. д., хотя, право же, они чисто русские, простые и ясные.
Вообще всем этим письмам — умным и глупым равно свойственна повышенная эмоциональность, взволнованность. Обвиняют ли читатели неряшливый газетный жаргон, приводят ли они вопиющие примеры тех искажений, которые встречаются в речи учителей и учащихся, указывают ли на речевые погрешности радио, — ясно, что для каждого из них это жгучий вопрос, который они не могут обсуждать хладнокровно.
Перелистываешь эти письма и убеждаешься в тысячный раз: читатель недоволен, возбужден, взбудоражен. Всюду ему мерещатся злостные исказители речи, губители родного языка. Чуть только в какой-нибудь статье или книге он заметит малейшую языковую погрешность или непривычную словесную форму, он торопится в грозном письме уличить автора этой статьи или книги в кощунственном пренебрежении к русской речи, хотя очень часто случается, что его собственная русская речь хромает на обе ноги.
Отобрав наиболее серьезные и дельные письма — их, конечно, оказалось немало, — я увидел, что суждения, которые излагаются в них, легко можно распределить по таким (очень отчетливым) рубрикам:
1. Одни читатели непоколебимо уверены, что вся беда нашего языка в иностранщине, которая будто бы вконец замутила безукоризненно чистую русскую речь. Избавление от этой беды представляется им очень простым: нужно выбросить из наших книг, разговоров, статей все нерусские, чужие слова — все, какие есть, и наш язык тотчас же вернет себе свою красоту. Эти борцы с иностранщиной настроены очень воинственно, и когда я позволил себе насмешливо выразиться о каком-то литературном явлении снобизм и назвать какое-то музыкальное произведение опус, я был во множестве писем осыпан упреками за свое пристрастие к иностранным словам.
2. Другие читатели требуют, чтобы мы спасли нашу речь от чрезмерного засилья вульгаризмов — как нынешних, так и воскресших из старых жаргонов: лабуда, шмакодявка, буза, на большой палец, железно и проч.
3. Третьи видят главную беду языка в том, что он чересчур засорен диалектными, областными словами.
4. Четвертые, напротив, негодуют, что мы слишком уж строги к областным диалектам и гоним из литературного своего обихода такие живописные речения, как лонисъ, осенесъ, кортомыга, невздоха, а также старославянское всуе.
5. У пятых еще сохранились обывательские, ханжеские, чистоплюйские вкусы: им хочется, чтобы русский язык был жеманнее, субтильнее, чопорнее. Увидев в какой-нибудь книге такие слова, как подлюга, или шиш, или дрыхнуть, они готовы кричать «караул!» и пишут автору упреки за то, что он позволяет себе бесчестить и уродовать русский язык. Прочтя в моей статье слово пакостный, новочеркасский пенсионер Т. поспешил сделать мне начальственный выговор: «Это слово не должно быть (так и написано: не должно быть. — К. Ч.) в разговоре, а тем более в печати, в серьезной статье». А бакинский читатель Д., сделав мне такой же упрек, высказал в своем письме пожелание, чтобы русская литература была возможно скорее избавлена от тех грубостей, какие встречаются, например, в стихах Маяковского. «Разве, — пишет он, — такие выражения, как „Облако в штанах“, „Я достаю из широких штанин“ и т. д., могут дать ценное для освоения русской речи?» (?!)
6. Шестые, как, например, тот же достопримечательный кандидат наук М., возмущаются, если какой-нибудь автор употребит в своей статье или книге свежее, выразительное, неказенное слово, далекое от канцелярского стиля, который и составляет их речевой идеал. И таких читателей немало. Требования подобных читателей можно сформулировать так: побольше рутинных, трафаретных, бескрасочных слов, никаких живописных и образных!
7. Седьмые обрушиваются на сложносоставные слова, такие, как Облупрпромпродтовары, Ивгосшвейтрикотажупр, Ургоррудметпромсоюз и т. д. Причем заодно достается даже таким, как ТЮЗ, Детгиз, диамат, биофак.
Конечно, трогательна эта забота современных читателей о своем родном языке, о его процветании, красоте и здоровье.
Но можно ли считать безупречными поставленные ими диагнозы? Нет ли здесь какой-нибудь невольной ошибки? Ведь в медицине это случалось не раз: лечили от мнимой болезни, а подлинной не распознали, не заметили. И пациенту приходилось своею жизнью расплачиваться за такие заблуждения медиков.
Хорошо сказано об этом у того же Горнфельда, которого так высоко ценили Короленко и Горький.
«Вдруг, говорит он, — на основании двух-трех случайных наблюдений, без всякого углубления в смысл явлений, раздается патриотический, националистический, эстетский или барственный стон: язык в опасности, и забивший тревогу может быть уверен, что если не соответственным действием, то, во всяком случае, вздохом сочувствия откликнутся на его призыв десятки огорченных душ, столь же недовольных новизной и столь же мало способных разобраться в том, что же в ней действительно дурно и что необходимо».
Никто не спорит: наша нынешняя русская речь действительно нуждается в лечении. К ней уже с давнего времени привязалась одна довольно неприятная хворь, исподволь подтачивающая ее могучие силы. Но на эту хворь редко обращают внимание. Зато неутомимо и самонадеянно лечат больную от других, нередко воображаемых немощей.
Это очень легко доказать. Нужно только подробно, внимательно, с полным уважением к читателю рассмотреть один за другим те недуги, от которых нам предлагают спасать наш язык.
К такому рассмотрению мы и приступаем теперь.
Глава третья
«Иноплеменные слова»
Я кланяюсь низко хорошему,
Что Западом в наши
Словесные нивы заброшено.
I
Первым и чуть ли не важнейшим недугом современного русского языка в настоящее время считают его тяготение к иностранным словам.
По общераспространенному мнению, здесь-то и заключается главная беда нашей речи. С этим я не могу согласиться.
Правда, эти слова вызывают досадное чувство, когда ими пользуются зря, бестолково, не имея для этого никаких оснований.
И да будет благословен Ломоносов, благодаря которому иностранная перпендикула сделалась маятником, из абриса стал чертеж, из оксигениума — кислород, из гидрогениума — водород, солюция превратилась в раствор, а бергверк превратился в рудник.
И конечно, это превосходно, что такое обрусение слов происходит и в наши дни, что аэроплан заменился у нас самолетом, геликоптер— вертолетом,
думпкар — самосвалом,
голкипер — вратарем,
шофер — водителем (правда, еще не везде).
И конечно, я с полным сочувствием отношусь к протесту писателя Бориса Тимофеева против слова субпродукты, которые при ближайшем исследовании оказались русской требухой.
И как не радоваться, что немецкое фриштикать, некогда столь популярное в обиходе столичных (да и провинциальных) чиновников, всюду заменилось русским завтракать и ушло б из нашей памяти совсем, если бы не сбереглось в «Ревизоре», а также в «Скверном анекдоте» Достоевского:
«А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика да бутылки толстобрюшки!» («Ревизор»).
«Петербургский русский никогда не употребит слово „завтрак“, а всегда говорит: фрыштик, особенно напирая на звук „фры“» («Скверный анекдот»).
Точно так же не могу я не радоваться, что французская индижестия, означавшая несварение желудка, сохранилась теперь только в юмористическом куплете Некрасова:
Питаясь чуть не жестию,
Я часто ощущал
Такую индижестию,
Что умереть желал,
да на некоторых страницах Белинского. Например:
«Ну, за это надо извинить высшее общество: оно несомненно деликатно и боится индижестии».
И кто не разделит негодования Горького по поводу сплошной иностранщины, какой до недавнего времени часто щеголяли иные ораторы, как, например, «тенденция к аполитизации дискуссии», которая в переводе на русский язык означает простейшую вещь: «намерение устранить из наших споров политику».
Маяковский еще в 1923 году выступал против засорения крестьянских газет такими словами, как апогей и фиаско. В своем стихотворении «О „фиасках“, „апогеях“ и других неведомых вещах» он рассказывает, что крестьяне деревни Акуловки, прочтя в газете фразу: «Пуанкаре терпит фиаско», решили, что Фиаско — важный американец, недаром даже французский президент его «терпит»: