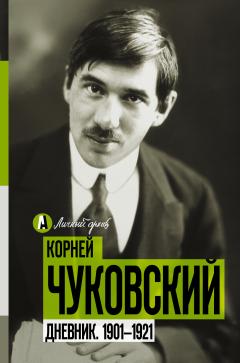Обрусение суффикса аци(я) происходит одновременно с обрусением суффикса аж(яж).
Недавно, репетируя новую пьесу, некий режиссер предложил своей труппе:
— А теперь для оживляжа — перепляс.
И никто не удивился этому странному слову. Очевидно, оно наравне с реагажем так прочно вошло в профессиональную терминологию театра, что уже не вызывает возражений.
В «Двенадцати стульях» очень по-русски прозвучало укоризненное восклицание Бендера, обращенное к старику Воробьянинову:
«Нашли время для кобеляжа. В вашем возрасте кобелировать просто вредно».
Кобеляж находится в одном ряду с такими формами, как холуяж, подхалимаж и др. Из чего следует, что экспрессия иноязычного суффикса аж(яж) вполне освоена языковым сознанием русских людей.
Очень верно говорит современный лингвист:
«Если оставить в стороне научные и технические термины и вообще книжные „иностранные“ слова, а также случайные и мимолетные модные словечки, то можно смело сказать, что наши „заимствования“ — в большинстве вовсе не пассивно усвоенные, готовые слова, а самостоятельно, творчески освоенные или даже заново созданные образования».[213]
В этом и сказывается подлинная мощь языка. Ибо не тот язык по-настоящему силен, самобытен, богат, который боязливо шарахается от каждого чужеродного слова, а тот, который, взяв это чужеродное слово, творчески преображает его, самовластно подчиняя своей собственной воле, своим собственным эстетическим вкусам и требованиям, благодаря чему слово приобретает новую экспрессивную форму, какой не имело в родном языке.
Напомню хотя бы слово стиляга. Ведь как создалось в нашем языке это слово? Взяли древнегреческое, давно обруселое стиль и прибавили к нему один из самых выразительных русских суффиксов: яг(а). Этот суффикс далеко не всегда передает в русской речи экспрессию морального осуждения, презрения. Кроме бродяги, скряги, плутяги, деляги, хитряги, есть миляга, работяга, бедняга, добряга, сердяга.
Но здесь суффикс становится в ряд с неодобрительными ыг(а), юг(а), уг(а) и проч., что сближает стилягу с такими словами, как прощелыга, подлюга, ворюга, хапуга, выжига.
Спрашивается: можно ли считать это слово иноязычным, заимствованным, если русский язык при помощи своих собственных — русских — выразительных средств придал ему свой собственный — русский — характер?
Этот русский характер подчеркивается еще тем обстоятельством, что в нашей речи свободно бытуют и такие чисто русские, национальные формы, как стиляжный, стиляжничать, достиляжитъся и т. д., и т. д., и т. д.
— Вот ты и достиляжился! — сказал раздраженный отец своему щеголеватому сыну, когда тот за какой-то зазорный поступок угодил в отделение милиции.
Или слово интеллигенция. Казалось бы, латинское его происхождение бесспорно. Между тем оно изобретено русскими (в 1870-х годах) для обозначения чисто русской социальной прослойки, совершенно неведомой Западу, ибо интеллигентом в те давние годы назывался не всякий работник умственного труда, а только такой, быт и убеждения которого были окрашены идеей служения народу.[214]
И конечно, только педанты, не знакомые с историей русской культуры, могут относить это слово к числу иноязычных, заимствованных.
Иностранные авторы, когда пишут о нем, вынуждены переводить его с русского: «intelligentsia», «интеллиджентсия» говорят англичане, взявшие это слово у нас. Мы, подлинные создатели этого слова, распоряжаемся им как своим, при помощи русских окончаний и суффиксов: интеллигентский, интеллигентность, интеллигентщина, интеллигентничать, полуинтеллигент.
Или слово шеф — уж до чего иностранное! Но можно ли говорить, что мы пассивно ввели его в свой лексикон, если нами созданы такие чисто русские формы, как шефство, шефствовать, шефский, подшефный и проч.?
Русский язык так своенравен, силен и неутомим в своем творчестве, что любое чужеродное слово повернет на свой лад, оснастит своими собственными, гениально экспрессивными приставками, окончаниями, суффиксами, подчинит своим вкусам, а порою и прихотям.
Действительно, иногда и узнать невозможно то иноязычное слово, которое попало к нему в оборот: из греческого кирие элейсон (Господи помилуй) он сделал глагол куролесить, греческое катабасис (особенный порядок церковных песнопений) превратил в катавасию, то есть церковными «святыми» словами обозначил дурачество, озорство, сумбур. Из латинского хартуляриум (оглашаемый священником список умерших) русский язык сделал халтурщика — недобросовестного, плохого работника. Из скандинавского эмбэтэ — чистокровную русскую ябеду, из английского ринг ды белл! — рынду бей, из немецкого крингеля — крендель.
Язык чудотворец, силач, властелин, он так круто переиначивает по своему произволу любую иноязычную форму, что она в самое короткое время теряет черты первородства, — не смешно ли дрожать и бояться, как бы не повредило ему какое-нибудь залетное чужеродное слово!
III
В истории русской культуры уже бывали эпохи, когда вопрос об иноязычных словах становился так же актуален, как сейчас.
Такой, например, была эпоха Белинского — 30-е и особенно 40-е годы XIX века, когда в русский язык из-за рубежа ворвалось множество новых понятий и слов. Полемика об этих словах велась с ожесточенною страстью. Белинский всем сердцем участвовал в ней и внес в нее много широких и мудрых идей, которые и сейчас могут направить на истинный путь всех размышляющих о родном языке. (См., например, его статьи «Голос в защиту от „Голоса в защиту русского языка“», «Карманный словарь иностранных слов», «Грамматические разыскания», соч. В. А. Васильева, «„Северная пчела“ — защитница правды и чистоты русского языка», «Взгляд на русскую литературу 1847 года» и многие другие.)
К сожалению, сложная позиция Белинского в этом сложном вопросе изображается в большинстве случаев чрезвычайно упрощенно. Не знаю, в силу каких побуждений пишущие о нем зачастую выпячивают одни его мысли и скрывают от читателей другие.
Получается зловредная ложь о Белинском, искажающая подлинную суть его мыслей.
Чтобы понять эти мысли во всем их объеме, мы должны раньше всего ясно представить себе, какие необычайные сдвиги происходили тогда в языке, и в частности, как огромно было количество иностранных оборотов и слов, вторгшихся в тогдашнюю русскую речь.
Их вторжение страшно тревожило и пугало реакционных пуристов, которые из недели в неделю, из месяца в месяц стихами и прозой выражали свою свирепую ненависть к ним. Над этими словами глумились даже на театральных подмостках.
И вот, например, какую дикую мозаику составил из них некий разъяренный пурист, выхвативший их из журнальных статей того времени:
«Абсолютные принципы нашей рефлексии довели нас до френетического состояния, иллюзируя обыкновенную субстанциональность и простую реальность силою реактивного идеализирования с устранением изолирования предметов. Гуманные элементы мелочного анализа, так сказать, будучи замкнуты в грандиозности мировых феноменов жизни, сосредотачиваются в индивидуальной единичности. Отторгаясь от своих субъективных интересов, личность наша стремится в мир объективных фактов и идей, и здесь-то доктрина умов великих, универсальных, здесь-то виртуозность творения достигает своих высоких результатов».
«И это русский язык половины XIX века! — ужасался блюститель чистоты русской речи. — Читаем — и не верим глазам. Что бы сказали, если б жили, А. С. Шишков и другие поборники русского слова, что бы сказал Карамзин!»
Конечно, такой бессмысленной фразеологии в журналистике того времени не было и быть не могло, но самые слова, которые воспроизводятся здесь, переданы верно и точно: чуть не в каждой книжке «Отечественных записок» действительно встречались в ту пору принципы, субъекты, элементы, гуманность, прогресс, универсальный, виртуозный, талантливый, доктрина, рефлексия и т. д.
Против этой-то иностранщины и заявил свой протест автор вышеприведенной «мозаики».
Сильно изумится современный читатель, узнав, что этим поборником русского слова был пресловутый мракобес Фаддей Булгарин, реакционнейший журналист той эпохи, который сам-то очень плохо владел русской речью и постоянно коверкал ее в своих романах и бесчисленных газетных статьях.