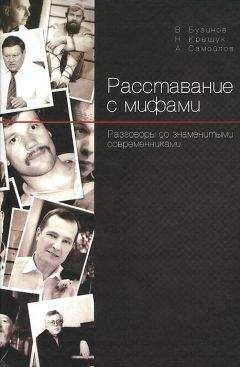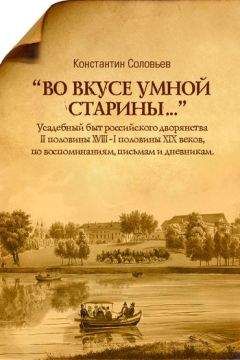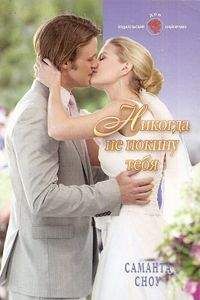Многие предпочли эмиграцию безумию, я же пытался бороться здесь и делал вид, что ничего страшного не происходило. Еще чуть-чуть, и меня бы выпихнули, но, наверное, я не успел перейти какую-то грань. Я подался в провинцию, болтался по республикам Кавказа, Средней Азии, нынешним независимым государствам, стремился как можно больше узнать и увидеть. Сейчас счастлив, что те годы потратил на эти поездки по стране, а не на знакомство с другим миром.
– Ну, в другой мир, предположим, нас не пускали – это сейчас Вы раскатываете по земшару как президент Русского ПЕН-клуба, пишете (набираете на компьютере) свои тексты в Берлине, на шведском острове Готланд, преподаете в Нью-Йорке русскую литературу японским студентам и возвращаетесь домой – Москву и Петербург. А тогда, задолго до гонений, Вы мотались по Союзу – ныне на обломках империи перечитываю Ваши «Уроки Армении» и «Грузинский альбом», вспоминаю нашу сумасшедшую, еще со школьных лет, любовь к географии, к Пржевальскому, к путешествиям (читай: к свободе) и думаю, неужели никакой дружбы народов на самом деле не было?..
– Утрата дружбы народов – единственная категория, ностальгически переживающаяся нами после того, как не стало советской власти. На официальном уровне, как лозунг, мы это презирали, а практически дружба народов была. Заслуги советской власти тут нет – это заслуга замкнутого пространства и железного занавеса. Все, что я знаю про народы, про нации, я знаю через нашу империю, через контакты с людьми, через их потрясающую сердечность. Люди признавали друг в друге людей помимо национальностей.
– Отчаяние часто подступало к сердцу, когда Вы, как древний номад, кочевали по империи, лишенный уюта дома, постоянного заработка, надежды, что мрак безвременья когда-нибудь рассеется?..
– Отчаяние всегда в сердце.
– Значит, Вам близка мысль, что норма самочувствия – это отчаяние?
– Замечательная мысль. И чья же она?
– Это слова Блока.
– Блок – мне очень близкий человек.
– И как жить, как выжить с этим всегдашним отчаянием, с его постоянной спутницей – тревогой?
– Я так скажу: если бы Бога не было, я бы застрелился… Был момент, когда я собирался выйти на Красную площадь, облить себя бензином и поджечь. Это 79‑й год. Я подумал: если наши введут танки в Югославию, то я это сделаю. Почему-то думал, что мы вторгнемся на Балканы, а в Югославии у меня жила любимая женщина. Но Господь, должно быть, подтолкнул под локоть нашего министра обороны, и мы вошли в Афганистан. Об этом замечательно сказала одна вредная старушка, бывшая наша шпионка-резидентша на Востоке, у которой в Москве снимал комнату мой узбекский приятель по сценарным курсам.
– Полный мрак! – воскликнула старушка. – Зачем нам это нужно? Там же ничего, кроме пыли и болезней, нет. К тому же Афганистан всегда был наш.
– Поколение шестидесятников, к которому мы принадлежим, в силу объективных причин было демонически невежественным, но тяга к культуре у нас в крови, читали мы запойно…
– Признаюсь, что я всегда был убогим читателем, я до сих пор читаю по слогам… От всех моих библиотек, от всех разводов у меня остались четыре книги: «Записки охотника», «Робинзон Крузо», «Приключения Тома Сойера» и Коран – из библиотеки прабабушки, первое издание в России, перевод с французского.
А Евангелие я впервые прочел в двадцать семь лет, когда уже написал «Сад» и «Дачную местность». В 63‑м я прочитал Евангелие, Пруста, Заболоцкого, Мандельштама, Зощенко.
Прочитав все это подряд, я стал другим человеком. И знаете, как ни странно, может быть, они меня разорили, а не восстановили – может быть, я гораздо круче шел… Не знаю, благодарен ли я этому эпизоду. Да, была невероятная безграмотность, но и огромный заряд энергетики. Мы все были такими…
– А Иосиф Бродский? Были ли Вы с ним близки? Часто ли встречались в Ленинграде, в Нью-Йорке?..
– Мы никогда не были с ним близкими людьми, но у нас была странная, длинная, медленная цепь взаимоотношений – и он про меня помнил, и я про него.
В Ленинграде мы с ним часто встречались и беседовали на улицах.
Помню, выхожу я 1 сентября 1970 года на Невский – дату запомнил точно, потому что это был предельный срок сдачи «Пушкинского дома» в издательство и всю ночь я дописывал этот памятник, сделал четыреста страниц, до конца, правда, роман тогда не довел, но рукопись сдал, голова от бессонной ночи гудит – до открытия магазина, до одиннадцати оставалось еще минут двадцать, а навстречу мне Бродский идет.
«Здравствуй, Андрей». – «Здравствуй, Иосиф». – «Что так рано?» – «Да вот, только что роман отнес в издательство». – «Как назвал?» – «Пушкинский дом». – «Неплохое название… А я сегодня открытку от Набокова получил». – «Что пишет?» – «Что мой «Горбунов и Горчаков» написан редким для русской поэзии размером». – «И все?» – «И все».
– Похоже на литературные анекдоты Хармса…
– Чистый Хармс, но «анекдот» еще не окончен. Через год, уже в Москве, пошел я в «Новый мир», где меня тогда хронически не печатали. Смотрю: поднимается в роскошной дубленке (значит, валютные гонорары уже начали поступать) Надежда Яковлевна Мандельштам. «Здрасьте» – «Здрасьте». – «Как дела в Петербурге? Как Иосиф?» – «Иосиф получил открытку от Набокова». – «Вот как! Он уже интересуется нашими проблемами?..»
– На апрельской (1999 года) международной конференции в Петербурге, посвященной юбилеям А. С. Пушкина и В.В. Набокова, был сделан доклад «Сцепление времен»: Пушкин, Набоков, Битов». Кстати, Набокова в 70‑м Вы уже читали?
– В конце того года я его начал читать и, надо сказать, он меня проломил. У меня есть несколько писателей, на которых я проломился, – Набоков, Бродский, Платонов.
– А Пушкин, Лермонтов, Гоголь?
– Это идеальные для меня писатели золотого века русской литературы. Но великих писателей я ненавижу. Когда начал читать Толстого и Достоевского, терпеть их не мог. До тех пор, пока они меня взяли и не вые…и. И уже как вые…й читатель я вынужден был их полюбить.
Это сложная история, это событие жизни, это событие биографии. Прочитать книгу, как стихи Бродского, как «Подвиг» Набокова, как платоновский «Котлован», – все равно, что родить ребенка, это события одного ряда.
Набоков, по-моему, совсем не такой, как мы его себе представляем. Может быть, со временем мы поймем, что он не был таким уж олимпийцем, снобом и мастером, как мы привыкли думать в общем-то. А то, что это сердце, то, что это боль, вроде как заслонено этим невидимым снобизмом. Как и Пушкин – он не для нас писал. Скажем так: для чего-то еще. И вот это-то еще нам уже нужнее воды и воздуха.
Когда он умер, я пережил его смерть, как потерю близкого человека, хотя понятия не имел о нем как о личности. 1977‑й был годом смертей: я потерял отца, а вскоре Набокова – и как-то это у меня слилось в ощущении…
– Когда 28 января 1996 года умер Иосиф Бродский, Вы написали, что смерть поэта – это не личная чья-то смерть, что власть, эта воплощенная трусость мира, оказала ему много милостей и почестей, обвинив в тунеядстве, сослав на Запад, как на химию, а затем, не дав визы, похоронить родителей…
– Мы виделись и разговаривали с Иосифом в Нью-Йорке ровно за месяц до его смерти – 28 декабря. Накануне я позвонил Иосифу, он сказал, что не успевает воспользоваться оказией, но рейс отменили, и мы успели свидеться. Господь послал мне эту встречу с ним, нарочно отложив отлет моего самолета. Иначе я не могу истолковать это, не преувеличивая себя, не преуменьшая его – это была судьба.
Он приехал ко мне на Вашингтон-сквер, где я как приглашенный университетский профессор снимал квартиру. Мы с Иосифом говорили об измотанности своих личных систем, хвастались болезнями, как нормальные старики. На прощание он меня обнял и сказал: «Только ты береги себя». Когда его не стало, я понял: Иосиф тогда со мной попрощался.
И когда в конце января я удрал в Переделкино, чтобы написать какой-то текст, включил «ящик» и услышал, что Иосиф больше никогда не приедет на Васильевский остров, я зарыдал, как теленок.
Когда умирают самые близкие твои люди – мать, отец, – они перестают тебя заслонять и ты становишься голым на земле.
Тебе больше ничего не предстоит. Другие пусть разбирают его, гения, Нобелевского лауреата, на запчасти тщеславия, а я просто понял в день его смерти, что у меня не стало на земле заслона…
– Заслона от космической радиации?
– Верно, верно…
– Мы в детстве, сказано поэтом, ближе к смерти, чем в наши зрелые года. Эта детская близость к смерти, наверное, и включает механизм памяти. У нашего поколения – в сорок первом нам четыре-пять – он запускается в войну…