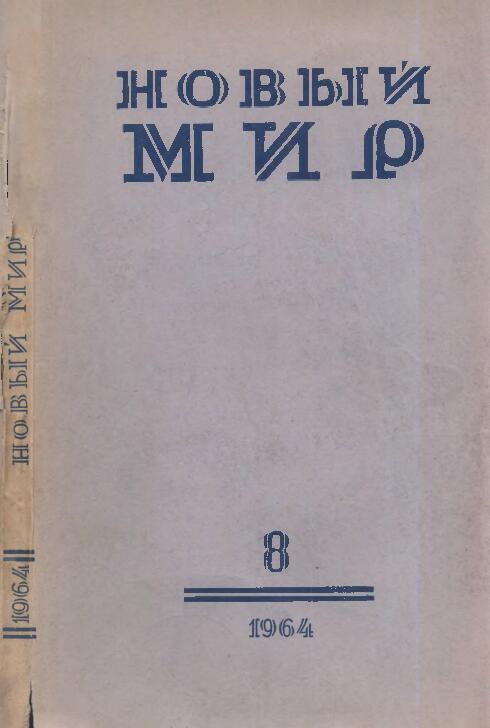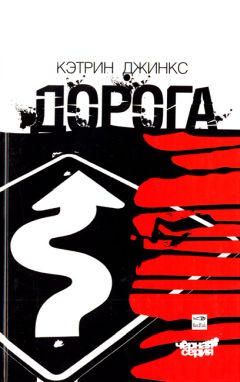а когда и нет. Капитаны ругаются, от вонючей рыбы носы воротят, а там ещё, в губе, на лихтера её не берут. В общем, если какую и довезут тухлую до Салехарда, и ту выбрасывают. Да и кому она нужна, такая невидаль, солёная щука и язи мелкие, когда в губе осетров ловят? Ну, и нашего брата, заготовителей, за такую рыбу да за убытки садят. Я когда приехал, — рассказывал Данила Васильевич, — сразу решил не садиться в тюрьму и не стал эту рыбу проклятую заготавливать. Председатель колхоза довольный, людей от оленей отрывать не надо. В Салехарде тоже довольны — ни убытков, ни тухлой рыбы. Ну, а справку в район даю, что план колхозом по сдаче рыбы выполнен. Справочку ту подошьют, отрапортуют ещё выше, а с меня никто ничего не спрашивает, даже хвалят и премию дают. Так вот и живу потихоньку. Заготовлю килограммов сто, кто хочет — пусть на месте покупает, останется — выброшу, не велик убыток, не тонны.
— Скучно без дела-то? — спросил я.
— Пошто без дела? Я ещё на одной работе числюсь, водомерщиком на метеостанции. Воду меряю на Пуре два раза в день. Тоже зарплата, отдай пятьсот, не валяются, — похвалился он. — Да лошадь у меня при рыбопункте, а жена конюхом числится — только ведь я за лошадью хожу. А потом — сами поживёте, увидите — сидеть не усидеть, охота больно богатая. Весной и осенью утки, гуси, зимой куропатки, глухари, дичи невпроворот.
— Однако поздно, — сказал я. — Спасибо за хлеб-соль, пора и отдыхать.
Я встал и стал прощаться.
— Ты своего цыгана-то забирай, — попросила хозяйка.
Вася нехотя встал, сердито посмотрел на хозяйку, подмигнул Вере, как бы говоря: «Ничего, ещё увидимся», — и пошёл вслед за мной.
Я зажёг лампу и, одевшись, стал растапливать железную печку. Спавший со мной рядом на полу Миша проснулся, когда я громыхнул дверцей. Он привстал, сощурив заспанные глаза на ярко горевшую лампу, но в комнате было холодно, и, поёживаясь, он опять нырнул в тёплый мешок. На полу заворочались все обитатели ненецкой.
— Ладно, полежите, пока нагреется комната, — тихо сказал я, надевая гимнастёрку.
Изо рта у меня валил пар. Весело потрескивали дрова в печке, в комнате становилось теплее, и все снова уснули.
Мне не спалось. С чего начать трудовой день на новом месте — я не знал. От «северной» бражки с табаком болела голова.
На дворе ещё было совсем темно. Лежавшие около нарт олени, испугавшись меня, вскочили на ноги. Взяв ведра, я пошёл на реку к проруби. Сбившись в темноте с узкой тропинки, я заметил, что снег под ногами хрустит слабее, чем вчера, а на небе не видно звёзд. «Значит, погода портится», — решил я. Пробив ломом образовавшуюся за ночь ледяную корку в проруби, я зачерпнул воды вместе со льдом и пошёл обратно. На фактории зло залаяли собаки и за кем-то погнались. Не успел я подняться на берег, как мимо меня с берега на лёд, делая большие прыжки, пробежал песец. Собаки, добежав до обрыва и увидев меня, остановились. Они повизгивали, не решаясь — бежать ли им дальше или вернуться. Я позвал их обратно в посёлок, и они медленно и нехотя поплелись к своим дворам.
В комнате по-прежнему все спали. Налив воды в кастрюли и поставив их на раскалившуюся докрасна печку, я велел всем вставать. Небольшая комната стала сразу тесной.
Постели сваливали в один угол. Обувались, сидя на полу.
Неторопливо поднялись ненцы, спавшие не раздеваясь в малицах на оленьих шкурах, и сразу вышли на улицу. Вслед за ними вышли мы с Мишей. Лётчик поливал мне на спину и шею холодную воду, я, фыркая, кряхтел, растирая лицо и грудь. Стоявший рядом ненец Пугана удивлённо наблюдал за нами. Он смеялся, когда у меня захватило дух, и вскрикивал, поёживался, когда Миша снова лил мне на спину холодную, со снегом воду.
— Снимай малицу, — предложил Миша ненцу.
— Моя не терпит, — испугался Пугана и попятился к нартам.
— Тогда умывайся, я полью тебе, — настаивал Миша.
— Не терпит, — снова отказался ненец.
— А неумытому ходить терпит? — удивился Миша.
— Это терпит, терпит, — подтвердил ненец.
Позавтракав кашей с консервами, я и Волохович пошли доставать лыжи, а мотористы с Мариной — устанавливать радиостанцию.
Было уже совсем светло, когда мы с Волоховичем на охотничьих лыжах, подбитых оленьими шкурами, легко скатились с высокого берега на реку. Миша ткнул палку в снег недалеко от берега.
— Метр десять, — сказал он о глубине снега, рассматривая зарубки на палке.
«Многовато», — подумал я.
Отошли дальше от берега.
— Девяносто сантиметров, — сообщил пилот о новом измерении.
На середине реки снегу оказалось семьдесят—восемьдесят сантиметров, но под снегом были торосы. Мы ходили по Пуру, выбирая место для большого лётного поля, где меньше снегу и лёд ровнее. Наконец такое место было найдено ниже посёлка.
Взяв с собой Юркина и прихватив топоры, мы пошли на противоположный берег, где виднелся лес. Срубили несколько небольших ёлок, чтобы обставить ими контур.
Оба лётчика не верили в эту затею; столько снега лопатами не расчистишь, пусть даже будет сто человек. Возможно, в другой обстановке они и посмеялись бы над моей фантазией. Но здесь, когда помощи ждать было неоткуда и их самолёты стояли «на приколе» без горючего, они стали вместе со мной рубить ёлки и таскать их за километр с берега на «аэродром», проваливаясь в глубоком снегу.
— Вот и начало, — сказал я, когда одна сторона площадки длиной с километр была обставлена по прямой.
Мы сидели на снятых лыжах, отдыхая после пяти часов работы. Широкая снежная гладь Пура чётко окаймлялась невысокими берегами, заросшими чёрным лесом. Русло было прямое и подходы к площадке для взлёта и посадки самолётов хорошие.
Как расчистить поле — я и сам ещё не знал, но знал, что расчистить нужно, иначе