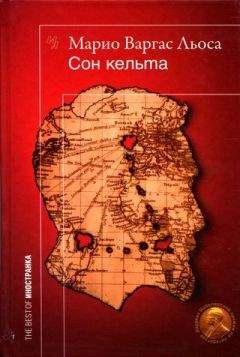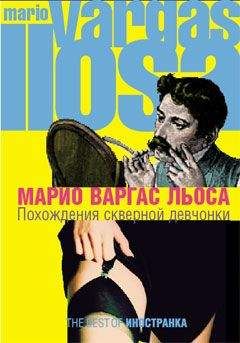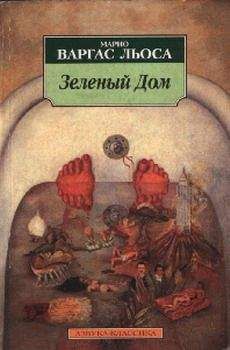— Благодаря тебе, дорогая Элис. Я стольким тебе обязан. Твоему радушию, твоей дружбе, твоему уму и культуре. Эти вторничные бдения на Гроувнор-роуд, где собиралось столько необыкновенных людей и царил такой высокий дух… Это — лучшее, что было в моей жизни. Теперь я могу тебе сказать это… И поблагодарить тебя, дорогой мой друг. Ты научила меня любить прошлое и культуру Ирландии. Ты так щедро дарила мне ее, и твои уроки безмерно обогатили мою жизнь.
Он высказал то, что чувствовал всегда, и смущенно замолк. Да, с самых первых дней знакомства он восхищался писательницей и историком Элис Стопфорд Грин, чьи книги и статьи о прошлом Ирландии, о легендах и мифах как ничто другое развили в нем особое чувство „кельтской гордости“, взбурлившее с такой силой, что он не позволял шутить на эту тему даже своим друзьям-единомышленникам. Он познакомился с Элис одиннадцать или двенадцать лет назад, когда попросил ее содействовать созданной им вместе с Эдмундом Д. Морелем Ассоциации за преобразование Конго и начал публичную битву против короля Леопольда II и его хитроумного творения — Независимого Государства Конго. Именно благодаря тому жару, с каким Элис ринулась в кампанию, обличающую ужасы колонизации, так много ее друзей из числа политиков и литераторов примкнуло к ней. Элис стала наставником и интеллектуальным поводырем Роджера, который, оказываясь в Лондоне, бывал в ее салоне еженедельно. Вечера на Гроувнор-роуд собирали видных профессоров, журналистов, поэтов, музыкантов, политиков, и все они, подобно хозяйке, обличали империализм и колониализм, ратовали за предоставление Ирландии автономии, а самые радикальные — за полную ее независимость. В уютном доме, где было так много книг из библиотеки покойного мужа Элис — историка Джона Ричарда Грина, — Роджер познакомился с Уильямом Батлером Йейтсом, сэром Артуром Конан Дойлем, Бернардом Шоу, Гербертом Китом Честертоном, Джоном Голсуорси, Робертом Каннингеймом Грэмом и многими другими писателями, чьи имена были у всех на слуху.
— У меня к тебе вопрос, который я хотел да не решился вчера задать Ги, — сказал Роджер. — А Конрад подписал ходатайство о моем помиловании? Ни адвокат, ни Гертруда не упомянули его имя.
Элис покачала головой.
— Я сама написала ему, прося участвовать, — сказала она огорченно. — Причины отказа не вполне понятны. Но Конрад всегда был человеком без четких политических убеждений. Да и кроме того, он ведь не коренной британец и оттого чувствует себя не слишком уверенно. К тому же, как поляк по происхождению, он ненавидит Германию… Заодно с Россией — обе столько веков кромсали его отчизну… Короче говоря, не знаю, в чем тут дело. Все мы, твои друзья, очень сожалели об этом. Впрочем, большой писательский талант вполне может сочетаться с политическим малодушием. Тебе ли не знать этого, Роджер?
Кейсмент кивнул. Он уже корил себя, что задал этот вопрос. Лучше было бы не знать. Отказ Конрада мучил его сейчас, как сообщение адвоката Гейвена Даффи о том, что и Эдмунд Морель по прозвищу Бульдог тоже не захотел поставить свою подпись под ходатайством о помиловании. Его друг, его брат! Соратник, вместе с которым они боролись за права конголезцев, ответил, что в военное время верность отчизне превыше личных симпатий.
— Да это не очень-то воздействовало бы на ход дела, — сказала Элис. — Конрад не имеет влияния на правительство Асквита[7].
— Ну да, разумеется, — кивнул Роджер.
Что ж, вероятно, и впрямь для успеха или провала кампании это не имело бы значения, но для него самого было бы очень важно. Между приступами отчаяния, которые охватывали его в камере, ему было бы так радостно сознавать, что знаменитый писатель, вызывающий восхищение у стольких людей — да и у него самого, — поддержал его в тяжкую минуту и, поставив свою подпись, как бы подал ему знак своего дружеского расположения.
— Вы ведь давно с ним знакомы? — спросила Элис, словно прочитав его мысли.
— Ровно двадцать шесть лет. Встретились впервые в 1890-м, в Конго. Он еще не был тогда писателем. Но, если память мне не изменяет, говорил, что начал сочинять „Каприз Олмейера“, первое, что потом опубликовали. У меня где-то хранится экземпляр рукописи. Морской роман. Он в ту пору еще говорил по-английски с таким польским акцентом, что я еле понимал его.
— Как и сейчас, — улыбнулась Элис. — Так и не избавился от него — говорит, будто „гальку жует“, по выражению Бернарда Шоу. Но пишет просто божественно, нравится нам это или нет.
В памяти Роджера тотчас воскрес тот июньский день 1890 года, когда взмокший под влажным зноем начинающегося лета, измученный москитами, которые чужестранца, казалось, терзали с особой свирепостью, появился в Матади молодой капитан британского торгового флота. Чернобородого коренастого поляка лет тридцати, с широким лбом и глубоко посаженными глазами звали Конрадом Коженёвским. По контракту с бельгийским акционерным обществом он должен был водить небольшой пароходик, перевозя грузы и торговцев от Леопольдвиля до первых, самых ближних водопадов на заводи Стэнли, в Кисангани. Ему предстоял первый рейс на капитанском мостике, и он был полон надежд и замыслов. И голова его была забита всеми теми невероятными мифами о великом гуманизме короля бельгийцев, не преследующего никаких иных целей, кроме цивилизации Африки и избавления конголезцев от рабства, язычества и прочих пережитков варварства. Хотя Конрад, опытный моряк, много плававший в Азию и Америку, был очень начитан и наделен явным талантом к языкам, Роджера с первой минуты покорила его почти ребяческая наивность. Симпатия оказалась взаимной, и с того самого дня и на протяжении трех недель, пока Коженёвский в сопровождении тридцати носильщиков не ушел по караванной тропе в Леопольдвиль, где должен был принять команду над своим кораблем „Руа де Бельж“, они виделись утром, днем и вечером.
Гуляли они в окрестностях Матади, добираясь до Виви — первой, недолго просуществовавшей столицы колонии, от которой ныне не осталось даже развалин, и даже еще дальше — до устья реки Мпозо, где четыре века назад, если верить легенде, первые пороги Водопада Ливингстона и Чертова Котла задержали каравеллу португальца Диого Као. На равнине Луфунди Роджер показал новому другу место, где Генри Мортон Стэнли выстроил свое первое жилище, впоследствии уничтоженное пожаром. Но главным образом они разговаривали — много и о многом, а больше всего — об этой новоявленной стране под названием Независимое Государство Конго, где Роджер жил уже шесть лет, а Конрад появился только что. И уже спустя несколько дней его взгляды и представления о том, куда он попал, переменились разительно. И, как сказал он Роджеру на прощание, рано утром 28 июня 1890 года, в субботу, отправляясь к Мон-де-Кристаль: „Ты растлил меня“. Да, так и сказал — со своим особым выговором, будто перекатывая во рту гладкие камешки: „Ты растлил меня, Кейсмент. Ты лишил меня веры в Леопольда II, в Независимое Государство Конго, а может быть, и в самое жизнь, как лишают невинности“. И драматически повторил: „Ты лишил меня невинности“.
Они переписывались и виделись в Лондоне, когда Роджер наездами бывал там. В июне 1903 года, спустя тринадцать лет после первой встречи, Кейсмент, как раз оказавшийся в ту пору в Англии, получил от Джозефа Конрада (теперь он звался только так и уже успел прославиться) приглашение погостить в загородном доме в Пент-Фарме, в графстве Кент, где с женой и сыном жил уединенно, замкнуто и тихо. Роджер с теплым чувством вспоминал уикэнд, проведенный в его обществе. В волосах Джозефа уже заметна была седина, он носил густую бороду, сильно располнел и усвоил себе несколько высокомерную манеру интеллектуального превосходства. Впрочем, по отношению к Роджеру по-прежнему был до крайности любезен и мил. Когда гость принялся расхваливать его последнюю вещь „Сердце тьмы“ — только что прочитанный им роман из конголезской жизни — говоря, что необыкновенные описания тех ужасов, которых они оба насмотрелись в Африке, буквально перевернули ему душу, Конрад остановил его. — Твое имя, Кейсмент, должно было бы значиться на обложке рядом с моим, — сказал он, хлопая Роджера по плечу. — Без тебя он никогда бы не был написан. Ты снял бельма с моих глаз. Благодаря тебе я прозрел и увидел, что такое Африка и Независимое Государство Конго. И жестокость человеческая.
После обеда, когда супруга Конрада, женщина очень незнатного происхождения, и его маленький сын встали из-за стола и друзья остались вдвоем, писатель после второй рюмки портвейна сказал Роджеру: тот сделал для конголезских туземцев так много, что заслужил право называться „британским Бартоломе де Лас Касасом“[8]. От этой похвалы Роджер покраснел до ушей. Как же могло так получиться, что человек, который был о нем столь лестного мнения и так рьяно помогал ему и Эдмунду Морелю вести кампанию против Леопольда II, отказался подписать ходатайство, где речь шла всего лишь об отмене смертного приговора? Чем бы эта просьба скомпрометировала его перед британским правительством?