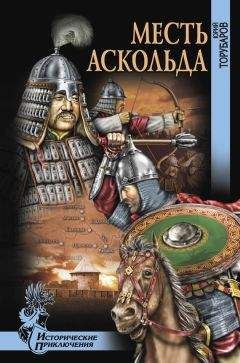Однако какой бы зоркий глаз не следил за правильностью очереди, как бы бабенки не взрыдывали от отчаяния: «Понужните этих ухабак, чтоб не наглели, ведь только подошли и лезут!», случалось всякое. «Ухабаки» — красномордые, сильные молодые мужики проникали сквозь людскую массу к весам и гирям, как нож сквозь масло. Рубежная твердыня прилавка, прочно сработанная из толстых досок-пятидесяток, в это время глухо скрипела, вздрагивала при отчаянном, но бесполезном напоре задних рядов. Мужики, какие-то заезжие, при деньгах, так же скоро получали хлеб и, соря пуговками, каким-то образом успев воткнуть себе в зубы «беломорины», выпрастывались на волю.
«Проглотив несправедливость», масса очереди, занимавшая передовые позиции, начинала свалку, вздымая над головами воздетые в потных ладонях трешницы и рубли, и только, может быть, к середине, где хватко держались друг за друга дисциплинированные и совестливые люди, очередь немного притихала.
Иван Андреевич, мужчина чуть выше среднего роста, моложавый, с гладкими щеками и белесым чубом, буквально царил, священнодействовал по ту сторону прилавка. Одним движением руки выхватывал он из мешка еще горячую, пышную белую буханку (мне помнится, пышными и белыми были эти буханки), кидал её на весы. Буханка едва касалась или не касалась их вовсе, а продавец уже принимал другой рукой комканые рублевки, совал медяки сдачи. Иногда к буханке прицеплялся в колдовском действе довесок, отхватываемый длинным ножом от дежурной, довесной буханки, тоже на лету, в гомоне напирающей бучи. Все это создавало впечатление точности и правильности «отпускаемого товара». Никто, ясно, и не торговался, не проверял и не перевешивал эти свои положенные в одни руки два кило. Будь доволен, что досталось, что не идешь домой с пустыми руками из этого «светопереставления».
Конечно, Иван Андреевич (фамилию его не помню) священнодействовал за прилавком не без пользы для себя. Обвешивал он совхозных тружеников здорово, но при встрече с ним на улице всяк был рад поприветствовать бравого продавца, а потом за глаза назвать умельцем, а то и покруче — проходимцем.
Была в этих хлебных ристалищах категория покупателей, которые пользовались привилегией, получая свою буханку без очереди, с полного согласия бушующего у прилавка народа. Привилегии этой удостаивались носильщики хлеба из совхозной пекарни, просторное строение которой белело известкой стен невдалеке от магазина, на берегу озера. По ночам ее окна светились, черная труба дымила, а пекарня пускала в небеса нежный хлебный дух. Чтоб получить, нет, буквально вырвать из рук Ивана Андреевича пустой мешок, который он выбрасывал из дверей, чуть их приотворив, надо было мгновенно кидаться в драку, что могли сделать только те, кто заняли очередь с ночи одними из первых, не сдавали никоим образом свою позицию на крылечке перед магазинной дверью.
Потом надо было наперегонки бежать рассветным проулком к этой пекарне, чтоб и там занять очередь за горячими буханками, только-только вынутыми из печи, отходящими в истоме на чисто вымытой деревянной платформе. Могло ведь случиться, что Иван Андреевич кинул «на драку собакам» тринадцать пустых мешков, а хлеба в пекарне хватило бы только на двенадцать. И последнему приходилось уныло следовать за вдохновенными носильщиками наполненной мешочной тары, брести в сомнении, что сумеет воспользоваться законной привилегией!
Все это происходило в любое время года. Действа мало чем отличались друг от друга, но у меня почему-то решительно выпали из памяти и осени, и весны. В эти охотницкие месяцы — отец иль кто-то из братьев добывали, конечно, утчонку, чирка или лысуху-гагару, которых в разделанном, опаленном виде, с перьями даже, можно было поменять на калач, круглую булку из ржаной муки у соседей-колхозников.
Но запеклись, закуржавели в памяти ранние зимние утра, когда полная луна еще высоко стоит в небе. Искрящиеся под лунным светом суметы снега за воротами бросают на накатанную санную дорогу синие тени. От стаек, от крыши дома, от тополя перед окошками, а далее, в улице, где начинаются столбы с проводами и горит расточительный свет электрических лампочек в окошках домов, тоже синеют тени. И, конечно, уже пластаются первые дымы из труб, у печей гремят вовсю чугуны, ухваты, сковородники.
Скрипит под валенками, подшитыми неумелой отцовской рукой, морозный снег. Эти скрипы оглушающе гулки в настороженном ледяном воздухе. В ближней от нашего дома колхозной конюшне дремлют стоймя рабочие лошади и только неспокойный вороной жеребчик пугливо ударяет копытом о прочную загородку, почуяв скребущуюся возле овсяной кормушки мышь.
Все эти краски и звуки просыпающейся окрестности чаруют. И можно было бы вполне удовлетвориться скромным их описанием, если бы получасом ранее под крышей нашего дома не кипели страсти, не вздымался угрожающе в руке отца солдатский ремень, не шарил в тесноте палатей ухват или сковородник, стремясь добыть меня из-за баррикады пимов, сбоек сухих карасей, чтобы поднять и снарядить в поход за хлебом. Вставать-подниматься было тем тяжелей и невыносимей, что я лишь два часа назад заснул, отложив книжку, которую читал до той поры, пока не кончился в лампе керосин.
В такую глухую, разбойную пору на крылечке магазина можно было встретить завернутого в тулуп сторожа Колю Ивлева с торчащими наружу стволами куркового ружья-двустволки. Ивлев — известный в селе охотник на лис, коих он при своем почтенном уже возрасте гоняет на лыжах по снежной целине, пока зверь, умаявшись, не теряет силы… То, что Коля Ивлев один на крылечке, не говорило о том, что ты вот такой герой, сумел прийти вперед всех. Нет, сторож нес в этот час показательную службу. А народ, пришедший раньше тебя, колготится в теплом закутке сторожки, поминутно прибывая, с каждым новым очередником, впуская в сторожку клубы холода, которые тут же теряются в дыму курцов и волнах жара от раскаленной печурки.
За стеной сторожки, сутулящейся рядом с продуктовым складом, мы, ребятня, как-то узрели несколько ящиков крупных, какие у нас не растут, замороженных яблок, в печальном своем великолепии похожих на конские глызы. Товар был завезен издалека, но товароведы и кладовщики не уследили, когда с наступлением стужи это яблочное великолепие превратилось в брак. Но все-таки из яблок можно было высосать кой-какую сладость, конечно, лишенную первозданных ароматов. Несколько дней пировала орда, совершая набеги к рабкооповскому складу, а когда уж надоело грызть эту мерзлоту, нашла прямое для этих «глыз» назначение. Хлестали эти круглые «мячики» клюшками; метали друг в друга во время потасовок на снежных сугробах. Из-за этих снарядов кто-то обзавелся под глазом лиловым фонарем.
Летом ответственность по добыче буханки хлеба многократно возрастала. Хотя летом пища наша и приобретала разнообразие благодаря огороду, несущимся курам, рыбе с озера, а все же без куска хлеба тоскливо, особенно на покосе! В летнюю пору я обычно просил у мамы хлебную трёшку еще с вечера. Она вынимала деньги из-под клеёнки горнешного стола, разгладив на столешнице, совала мне в карман, наказывая:
— Смотри — не потеряй!
— Заметано! — восклицал я, вырываясь на волю. Теперь буду носиться в компании орды до глубокой печи. Встретив и стадо у околицы, наигравшись и в войну, и в прятки, скоротаю время…
В то утро, вернее, во второй половине светлой летней ночи, пришел я к магазину первым.
— Ты чей будешь такой ранний? — спросил сторож. — А-а, Василья Ермиловича… Ну так чё тебе сказать, парень, жди. Может, чё и дождешься. Сёдни только Иван Андреич торговать не будет…
Случалось, что Иван Адреевич не открывал свою хлебную точку, занятый какими-то делами. Тогда хлеб продавала Марикова. Нюра Марикова, пожалуй, была фигурой поизвестней и популярней всех в селе. Работала она в своем магазине смешанных товаров — вечно. Ну, сколько я помню. С той поры, когда носил через всё село суп в кринке для отца в мастерскую. Так вот, когда взрослые говорили про «рабкоп», предполагалось, что это тот рабкоп, где за прилавком Марикова.
Магазин этот, он по соседству с хлебным, настоящий магазин — с вывеской над двухстворчатыми, окованными толстыми полосами железа входными дверьми. За входными, отпирающимися — на крыльцо, тамбур, из которого можно попасть внутрь через легкие двери, верх которых представлял застекленную раму со множеством деревянных перекрестий, расшатанных, скрипучих, но весело звенящих стеклышками при всяком маломальском хлопанье. А хлопали ими часто. И если магазин Ивана Андреевича, срубленный из местных березовых бревен, крыт был еще редчайшим на селе материалом — серым рифленым шифером, то «рабкоп» Мариковой гордился настоящей четырехскатной крышей из старинного железа, с вензелем страховой компании и двуглавым орлом — на торце угла, слезившегося смолой из потемневших сосновых бревен. Внутри магазина нас, ребятишек, интересовали не куски и рулоны мануфактуры — ситцев, сатинов и бумазеи, лежавших на прилавке для доступности и для разглядывания бабами, не глубокие резиновые бахилы для пимов, не охотничьи ружья — ими интересовались серьезные мужики. Занимали нас конфеты и резиновые шарики для надувания, что лежали в застекленной витрине. Они именовались «резиновыми изделиями Баковской фабрики № 2» и стоили сорок копеек.