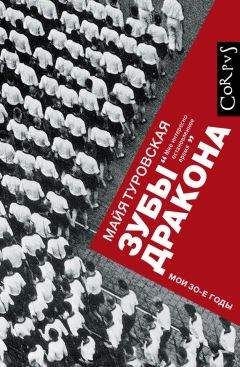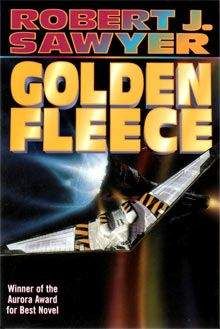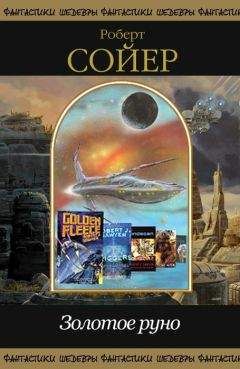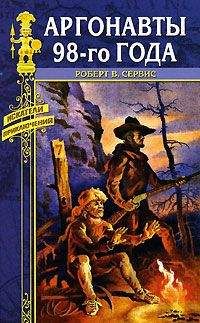«идеал» – смуглый интеллектуал Линде[29] – возможно, еврей. Не говоря уже о том, что пожизненный муж, Виктор Леонидович Темплин, обретенный в местах не столь отдаленных, – тоже еврей.
Тем более бросается в глаза укорененность антисемитизма в головах.
Не могу не заметить, что в своей частной жизни – ни в московских дворах, ни в школе, ни даже в эвакуации – я с антисемитизмом на личном уровне не сталкивалась. Иное дело на уровне государственном.
Когда в войну антисемитизм в СССР как старое, но грозное оружие принят был на вооружение государством и деятели с «пятым пунктом» практически исчезли из руководства, среди интеллигенции он стал неприличен.
Диалектика, однако! – сказал бы чукча.
Текущая история, которая вопреки теориям никак не хочет кончаться, показывает, что хотя евреи в количестве шести миллионов оказались смертны, антисемитизм умирать не хочет. Он слишком удобен.
В дневнике Нины, впрочем, ему сопутствует ксенофобия в более широком смысле. Коми для Рыбина – не столько «нацменьшинство» (термин советской политкорректности), сколько «инородцы». Сталин – не только тиран, но и грузин.
Эта фобия – самая шокирующая, но не единственная. Олицетворением всего грубого, темного, развратного был для Рыбина, а за ним и для Нины «рабочий» – слово с устойчиво отрицательной коннотацией. Разумеется, «фабричный» той поры был и груб, и неряшлив, и невоспитан (недаром на задних обложках наших школьных тетрадей помещались тогда гигиенические прописи вроде: «Не плюй на пол», «Мой руки перед едой» и проч.). Но, во-первых, в своем большинстве этот советский пролетариат был вчерашним крестьянином, еще недоурбанизированным. Во-вторых, можно предположить, что для эсера Рыбина была ненавистна сама идея диктатуры пролетариата, декларируемая большевиками в противовес крестьянству. Так что, как и в случае «еврея», дело шло о стереотипе.
Менее очевидно происхождение материнской фобии, которая (жалуется Нина) изуродовала ей жизнь. Речь идет о внушенном ей опасении перед мужчиной, отвращении к «любви», страхе перед изнасилованием. Было ли за ними что-то личное или это патриархальная реакция на теории и диспуты 20-х годов о свободной любви, сказать трудно. Но если сестры, учась в институте, не испытывали подобных комплексов, то Нине, склонной к рефлексии, они существенным образом затруднили самые обычные повседневные контакты с противоположным полом. Это тоже стало частью ее «пессимизма».
Возвращаясь назад, замечу, что из трех девочек «с дневниками» судьба, как ни странно, более других пощадила Нину Луговскую. Анна Франк сгинула в Освенциме. Мария Башкирцева, окруженная роскошью и заботами, умерла от чахотки, не дожив до двадцати четырех лет и оставив в музеях Франции и России несколько изящных, но не слишком самобытных картин. Нина, отбыв пять лет лагеря и северную ссылку, там же вышла замуж, осела с мужем во Владимире, стала художницей (от нее тоже остались в музеях картины), добилась реабилитации в «оттепель» и успела хоть на год, но пережить ненавистную ей советскую власть!
И в конце концов она оказалась тем, кем хотела: автором. Так что в известном смысле ее можно признать даже удачницей…
На фоне Пушкина, или Юбилей во время чумы
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
А. С. Пушкин
В год Большого террора, 1937-й, судьба послала советской власти очень нужный ей стопроцентный юбилей: столетний. С легким веянием макабра: всенародно праздновать предстояло смерть поэта. Недаром же позднейшее академическое издание «Культурная жизнь в СССР 1928–1941. Хроника»[30] «подправило» сообщение «Известий» от 11 апреля 1936 года: «Первое заседание Всесоюзного Пушкинского комитета. Разрабатывается программа подготовки к столетию со дня рождения (курсив мой. – М. Т.) А. С. Пушкина». Описка совсем по Фрейду.
30-е годы, они же «предвоенное время», – понятие общее, отличное от времени «послевоенного». Но именно между их началом и концом первое в мире рабоче-крестьянское государство мутировало в социалистическую империю. Менялись культурные коды. Культурная диктатура пролетариата (РАПП) была уже отменена, но искусство в целом несло еще ожоги мятежных сполохов авангарда, получившие предосудительное название «формализм».
Тридцать седьмому году, ставшему впоследствии нарицательным, предшествовали бурные события в культурном поле.
«Пожатье каменной его десницы»
Вот несколько предварительных дат из той же академической хроники.
1936 год
28 января. Редакционная статья в «Правде» «Сумбур вместо музыки» об опере Шостаковича «Катерина Измайлова»[31].
6 февраля, там же: «Балетная фальшь» о его же балете «Светлый ручей»[32].
13 февраля, там же: «Грубая схема вместо исторической правды».
О фильме «Прометей» Кавалеридзе, студии Украинфильм.
28 февраля, там же: решение ЦК ВКПб и СНК СССР о ликвидации театра II МХТ.
1 марта, там же: редакционная статья «О художниках-пачкунах»[33].
Землетрясение начавшейся борьбы с формализмом под руководством вновь образованного Комитета по делам искусств переходило в цунами ликвидаций, реорганизаций, обсуждений, осуждений, покаяний. Под раздачу кто только не попадал.
К Пушкинскому юбилею. Москва, 1937 год.
Эйзенштейн с фильмом «Бежин луг», не просто запрещенным, но бескомпромиссно смытым.
Андреевский Гоголь на Гоголевском же бульваре, официально осужденный на замену в 1936-м. Правда, на практическое замещение его соц-Гоголем Томского понадобилось еще пятнадцать с лишним лет (1952); и еще семь лет – чтобы его определили на поселение в мемориальном дворе неподалеку.
Ликвидированная советско-германская студия «Межрабпомфильм» и отправленная из столицы в Ростов-на-Дону театральная студия Завадского.
Старая комическая опера Бородина «Богатыри», озвученная новым текстом пролетарского поэта Демьяна Бедного и разгромно снятая с репертуара.
Поперек этого сумбура вместо культуры случался, конечно, и позитив: гастроли театра им. Руставели в Москве; выставки Рембрандта[34] или Петрова-Водкина; первый концерт вновь созданного Государственного симфонического оркестра в Большом зале Консерватории – жизнь редко течет в одном направлении. А в январе 1937 года пройдет Первое Всесоюзное совещание по вопросам телевидения.
Но в наступающем двадцатом году советской власти, на фоне вакханалии арестов и процессов нужно было какое-то интегральное культурное событие, обращенное не только к образованным покупателям билетов и книг, а ко всем и каждому. Таким событием и предстояло стать Пушкинскому юбилею.
Масштаб его в ту информационно скудную эпоху был необъятен. Во «Временнике Пушкинской комиссии» один аннотированный перечень «мероприятий» этой «великой стройки коммунизма» занимает много страниц убористого текста[35].
Вот несколько краеугольных дат:
1936 год
17 октября открывается в Третьяковской галерее выставка «Пушкин в изобразительном искусстве».
1937 г. 29 января – пленум Пушкинского Комитета, который определяет «порядок проведения» юбилея.
9 февраля – Постановление ЦИК СССР «об ознаменовании…»
10 февраля – «в связи со столетием… торжественное заседание» в Большом театре, а также митинг на Пушкинской площади.
13–15 февраля – «торжественная сессия» Академии наук СССР.
16 февраля – открытие Всесоюзной Пушкинской выставки в Историческом музее.
22–26 февраля – пленум правления Союза советских писателей, посвященный сразу двум датам: юбилею Пушкина и Октябрьской революции.
От этого эпицентра юбилей распространялся по всем долам и весям страны, ее сосудам и капиллярам. Он должен был достичь каждого печатного органа и комсомольской ячейки, колхоза, воинской части, каждой школы и детского сада, театра, завода, корабля, библиотеки, издательства, пионеротряда, каждого профсоюза, художественного промысла и «красного уголка»…