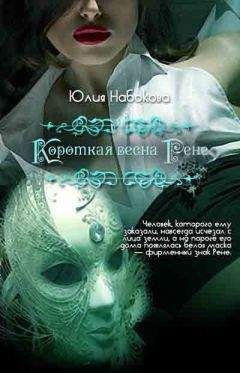Ознакомительная версия.
М. Мамардашвили (1930–1990) был принципиально внесистематическим мыслителем. Он не любил философские системы, он любил мышление и развивал особый тип философствования – мышление вслух, происходящее в форме свободной интеллектуальной импровизации. Что такое Просвещение? – Это совершеннолетие человека, умение самостоятельно пользоваться собственным разумом – мысль Канта, которую часто повторял философ. В России так и не было Просвещения в западном смысле, поэтому мы по-прежнему «страна несовершеннолетних». Мы существуем в «царстве недуманья», в пространстве богатого, но рыхлого, ничем не скрепленного и расползающегося содержания. «Кто не мыслит, тот умирает», – этот императив определял стиль философствования автора «Лекций о Прусте» и «Картезианских размышлений», чьи книги, впрочем, значительно уступают его устным импровизациям. Здесь главное – внесение ratio в хаос русского сознания и русской жизни, перманентно повторяющих одни и те же ошибки. Существуя, казалось бы, в национальной традиции устного философствования и понимая философию не как теоретическое конструирование, а способ существования, Мамардашвили, однако, был в принципиальной оппозиции к нашему домашнему менталитету, ставящему жизнь выше всякого сознания, гнозиса, метафизики. Философ в этом смысле в самом деле всегда – чужой: он производит радикальную критику сознания, идеологических клише, ментальных стереотипов и национального самоупоения.
Существует любопытное высказывание о том, что люди делятся на четыре основных типа: «Засланных, сосланных, награжденных и аборигенов. Аборигены – это те, кто родился на Земле. Они здесь наиболее адаптированы. Сосланных выслали сюда в наказание из лучших миров: они все время мучаются и плачут. Награжденных перевели за хорошее поведение из худших миров: им все кажется прекрасным. А засланные – это наблюдатели, шпионы». В одном из интервью Мамардашвили назвал свою жизнь «жизнью шпиона», а философа – существом, наблюдающим наш мир из иной реальности.
Личность этого странного грузина-космополита на российской почве, никогда не бывшего диссидентом, пришедшего через марксизм к Декарту и Канту (из русских мыслителей признававшего лишь Чаадаева и Вл. Соловьева), пластически наглядно демонстрировала значимость автономного самосознания, сплавленного с экзистенциальным опытом, что давало возможность свободы и свободного мышления в условиях жесточайшего идеологического прессинга. Ему удавалось перемещаться в пространстве, курсируя между Москвой, Тбилиси и Ригой, читая лкции там, где это было возможно – то в МГУ, то во ВГИКе, то в Тбилисском университете. Попутно он взял на себя почти непосильную задачу – проговаривания, промысливания, постижения иррациональных величин, черных дыр, бездн и провалов евразийского континента, в пространстве которого мы все должны существовать. Здесь – продолжение многолетней утопии русского западничества: внести в русские стихии идеи формы и ответственности и научить людей мыслить так, как мыслят в Европе, причем не в реальной, а, скорее, в идеальной, в принципе уже не существующей.
Пик его прижизненной известности приходится на конец 1980-х, и в это же время происходит его вынужденное грехопадение в политику, которое и стало для него роковым. Распад империи привел к всплеску национализма, которого не избежала и Грузия. Но как и для Чаадаева, для Мамардашвили истина выше отечества: «Если мой народ выберет Гамсахурдия, то мне придется пойти против собственного народа». Естественно, что для звиадистов он стал «врагом». Иррациональные политические стихии всегда сильнее самого мощного ума. И в этом смысле судьба Мамардашвили не стала исключением.
Рядом с Мамардашвили следует поставить и его друга Александра Пятигорского (соавтора по широко известной в узких кругах книге «Символ и сознание»), семиолога, буддолога, автора философических романов, скрывшегося в Лондоне от советской власти еще в 1974 году и редко появляющегося в метрополии. Если Мамардашвили – это строгий витязь несколько старомодного рационализма, облеченный в доспехи картезианского самосознания, то Пятигорский – великолепный импровизатор, пожалуй еще больший отрицатель «систем», интеллектуальный провокатор и даже разбойник, мыслящий постоянно наперекор себе, сопоставляющий несопоставимое, чувствующий себя в буддизме столь же свободно, как в семиотике, европейской мысли или русской литературе. Именно здесь следует воздать должное метафизике – одному из немногих занятий, толкающих человека к вечному – и понять ее главное преимущество по сравнению со всеми гуманитарными науками, занимающимися бесконечным и бессмысленным накоплением и хранением фактов – способность видеть сущности, основания и смыслы, благодаря чему мир полностью преображается и становится иным.
«Искалеченные мыслью»: интеллектуал как антропологический тип
«Э, да все это философия!» – говорят иногда люди и говорят правду, глубокую правду… Как люди свежие, не окалечившиеся мыслью, они не могут без смеху смотреть, как сознание хотят нам выдать за жизнь. Но сознание идет иногда еще дальше и еще смешнее: это когда оно хочет заменить жизнь теориями о ней, основанными на знании, прямо вытекшими из знания… Сознание – болезнь. Не от сознания происходят болезни (что ясно как аксиома), но само сознание – болезнь.
Ф. М. Достоевский
Но воздав хвалу метафизике, следует сказать и о ее драматических проблемах. Философ (шире – интеллектуал) – это существо, погруженное в нескончаемый и неостановимый поток рефлексии «по поводу» и «без повода», без начала и конца. В итоге ему все равно, что является предметом его мысли (скажем, хорошая или плохая литература – «плохая» может давать даже больший импульс, чем «хорошая»), ибо в пределе бытия все равнозначно и все едино. «Не в писаниях Монтеня, а во мне самом содержится все, что я в них вычитываю», – знаменитое высказывание Паскаля является подлинно метафизическим. Иными словами, философ предстает своего рода магом, демиургом: из сырого материала жизни он способен конструировать собственную реальность и существовать в ней. Постоянно созерцая ужасы и кошмары окружающего, философ, в отличие от обычного человека, должен уметь переварить их и видеть за ними смысл. Главный орган конструирования другой реальности – жесткие челюсти интеллектуальной рефлексии – порой способны творить чудеса: дробить и перемалывать любой абсурд и таким образом принимать его. Сущностью подлинного философствования является принятие и оправдание мира, сколь бы чудовищен он ни был. Философ так или иначе всегда конформист в самом истинном и глубоком значении этого слова, подстраивающий не столько свое сознание под мир, сколько мир под себя. Он никогда не «борец за правду», так как понимает относительность всякой правды. В пределе у «идеального философа» нет и не должно быть ни собственной позиции, ни даже предпочтения тех или иных идей, ибо любым – самым «истинным» – идеям можно всегда противопоставить другие, не менее истинные. Философ в принципе органически не способен к выбору, и позиция «буриданова осла», умирающего от голода между двумя одинаковыми охапками сена, является глубоко метафизической. Все же формы неприятия, восстания, бунта или выбора в истории мысли в духе Киркегора, Ницше, Шестова или Камю становятся характерной «ересью» внутри самой философии. Примечательно, что за все время своего существования метафизика так и не смогла дать никакого внерелигиозного обоснования морали – трагикомический кантовский императив тому пример. Именно с философской точки зрения невозможно доказать, чем «добро» лучше «зла», если и то, и другое абсолютно необходимы, суть две стороны одного и того же. Отсюда очевидно, что философ, в конечном счете, оказывается органически непричастен к жизни, сущность которой всегда выбор, драма, конфликт: из бесконечного лабиринта рефлексии и сомнения нет выхода. Философ и вся метафизика не присутствуют в бытии, как сказал бы Хайдеггер, они сами себе закрывают доступ к его источникам. «Что такое сознание? – читаем мы у Пастернака. – Рассмотрим. Сознательно желать уснуть – верная бессонница, сознательная попытка вчувствоваться в работу собственного пищеварения – верное расстройство… Сознание – яд, средство самоотравления для субъекта, применяющего его на самом себе. Сознание – свет, бьющий наружу, сознание освещает перед нами дорогу, чтобы не споткнуться. Сознание – это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их светом внутрь и случится катастрофа». Самосознание способно не только преображать мир, но и разрушать своего носителя. Человеку нужны смыслы, открывающие иную реальность, и не нужны одновременно: понимание дает перспективу, но может калечить и парализовывать. В определенном ракурсе история метафизики как самосознания культуры – это история борьбы с жизнью (природой), стремление овладеть, покорить и подчинить ее себе. Начиная с античной Греции, где культура и философия существовали благодаря рабству, вплоть до XX столетия борьба шла с переменным успехом. Но все попытки заковать реальность в интеллектуальный саркофаг, которые, казалось бы, должны вот-вот успешно осуществиться, завершились полной катастрофой. «Интеллект характеризуется естественным непониманием жизни», – мысль Бергсона, повторенная вслед за Ницше, означает, что западная метафизика лишь на третьем тысячелетии своего существования увидела столь элементарную истину и призналась в своем бессилии. После «восстания масс» положение философа и философии принципиально меняются: принятие и оправдание бытия в стиле Спинозы, Гегеля или даже Вл. Соловьева более невозможно. Сознание, направленное внутрь, работает на холостом ходу и калечит душу и тело его обладателя: он превращается в перекошенное существо, разговаривающее на фантастическом наречии, в котором с трудом просматриваются половые признаки. В российской действительности, где жизнь была всегда сильнее всякого самосознания, это порождает либо изощренный эскапизм, попытки выстроить защитные стены из непроницаемого языка, интеллектуального снобизма, и подражать жизни западных интеллектуалов, либо же заставляет пить горькую, что является хотя и не специфически философским, но по-прежнему самым надежным способом присутствия в бытии и примирения с действительностью.
Ознакомительная версия.