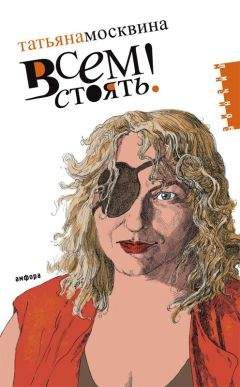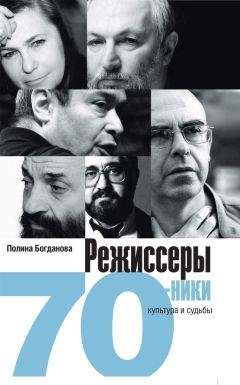Ознакомительная версия.
Конечно, хотелось бы, чтобы авторского кино было побольше, тогда, наверное, склонность кинорежиссеров к чтению умственных книг не влекла бы за собой так фатально зевоту у зрителя, воспринимающего их произведения. Сейчас же многие стремятся все-таки уберечь единственного режиссера, смело рассказывающего нам о своем подсознании, от грубостей, вроде использования в критическом обиходе слов «скука» и «скучный», хотя они, бывает, точно характеризуют естественную реакцию живого организма на трудное философское кино.
Трудность «Дням затмения» принесла довольно простая операция: оставив некоторые следы Давления на героя (внезапная посылка, вторжение посторонних, самоубийство соседа), режиссер вынул разумный логический стержень, на котором держалась повесть, и происходящее осталось без объяснений. Если, например, из фразы «режиссер А. Сокуров недавно снял двухсерийный фильм „Дни затмения“ по сценарию Ю. Арабова» убрать главные слова, получится: «А. недавно затмения Ю.» – фраза, конечно, куда более изысканная, загадочная, даже мистическая.
Отказ от простейшей логики может быть плодотворен только тогда, когда он делается во имя иной, художественной логики. Она, очевидно, должна быть в том противостоянии героя и среды, что проходит по всему фильму от начала до конца. Структура фильма напоминает островки (эпизоды с участием героя), плавающие в огромной кашеобразной среде. Какова эта среда, каков герой?
Годом раньше мы увидели «Перемену участи» Киры Муратовой. «Перемена участи» так же, как «Дни затмения», снята без Давления и обладает свойством, о котором сама Муратова на премьере фильма в Ленинградском Доме кинематографистов выразилась так: «Не ищите в картине шифра, социальных аллегорий, мне давно хотелось снять такое… вообще художественное кино» (цитирую по памяти). Интересное понятие – «вообще художественное кино». К нему мы еще вернемся, а пока отмечу, что поиски художественности привели и Муратову, и Сокурова к метафорическому «Востоку», окружающему героев и противостоящему им – однако с разным, по-моему, результатом.
По видимости, «Восток» из «Перемены участи» – грубый, грязный, наглый, жадный, размалеванный, абсолютно немудрый и нетаинственный «Восток» – противостоит цивилизованным культурным белым людям, решающим вопросы любви и чести. Но, по сути, он прост и наивен, этот «Восток», и никакой особой угрозы в нем нет, так, аляповатое пятно в популярной механике бытия. Куда страшнее героиня фильма, Мария, поскольку мерзость ее душевной природы прикрыта вдохновенно-истерическими мечтаниями, таинственными взглядами и вздохами, мнимой утонченной сложностью. Свою реплику в споре о «вечно женственном» Муратова сделала с полной мерой горького ехидства. Ее Мария (Наталья Лебле) – это анти-«раба любви», извечная женская симуляция духовной жизни, симуляция, маскирующая простые цепкие инстинкты. Подобная симуляция находится в прямой связи с культурой и цивилизацией – она тоже, на свой лад, их высшее достижение. Так что «Восток», извлекающий из участи Марии толику денег, кажется в сравнении с нею малым ребенком. И тут обман, и там обман, но в одном случае – простецкая корысть, в другом – пируэты мнимой утонченности, прикрывающие дрянную, преступную суть.
Антитеза «Восток» – «белый культурный человек» решена «Переменой участи» вряд ли в пользу последнего.
Антитеза «Восток» – герой (русский советский юноша) затеяна у Сокурова явно в пользу героя.
«Дни затмения» снабжены рядом намеков-символов, которые, наверное, должны сделать сокуровский «Восток» не просто чужой, непонятной средой, местным колоритом. Здесь дети едят булавки, причем рентген ничего не показывает; здесь за героем следит страшноглазый варан по кличке Иосиф, а в комнату вползает змей, тот, что соблазнил Еву. Заметим, что эти характеристики словесные – важный момент в сокуровской поэтике. Не расскажи нам герой про ребенка, не поименуй он точно варана (ведь Иосиф вряд ли произвольное имя для хищного гада; знаем мы, кто у нас Иосиф), не уточни при виде змея, что «такая тварь и соблазнила Еву», – вся эта компания так бы и осталась пятном местного колорита. Поскольку сами по себе – невинное дитя, варан, полюбившийся многим по фильму «Жизнь на земле», и цирковой удав – никакой особой изобразительной символической силой не обладают.
«Восток» Сокурова никак не тянет на инфернально-многозначительную метафору, которая, судя по иным штрихам, замышлялась. Сбивая густую интернациональную стихию, режиссер использует в звуковом мире фильма туркменскую, армянскую, азербайджанскую, бурятскую речь, что производит впечатление легендарного «гур-гур» (словосочетание, к которому обращаются актеры, создавая шум толпы). Этот «гур-гур» плотно облепляет героя, но никак не убеждает, что змею, соблазнившему Еву, тут-то самое и раздолье в этой стихии и что она недовольна баптистами и адвентистами из пишущей машинки героя.
Семь последних слов я еще разъясню, сейчас же время вспомнить, что воюют не числом, а уменьем; создавая свой «Восток», Сокуров, по-моему, применил именно число, количество. В фильм втиснута масса типажей, микросценок, образов – вместо, может быть, одного-единственного, который бы и врезался в память навсегда, сконцентрировав всю суть этого «Востока». Конечно, тягостное впечатление производят типы из туркменской психиатрической больницы, обильно показанные в фильме, но, думаю, типы из психиатрической больницы г. Горького, откуда родом герой фильма, тоже не поселили бы в душе отрадного чувства. Я лично предпочитаю скрипку домбре, однако, глядя на зачем-то вставленный в картину конкурс национальной музыки, не нахожу в уме никаких сложных философских ассоциаций, а думаю в духе восточно-созерцательной констатации факта: «а вот конкурс национальной музыки». Да, бедно, грязно – но это не больше, чем среда, клочковатая декорация, из-за которой странно было бы сходить с ума или стреляться.
Мое отношение к этой среде, судя по всему, где-то совпадает с отношением героя. Помните, режиссер говорил о культурном вакууме, способном повергнуть в отчаяние, об ужасном мире – а в герои выбрал иного человека, мирно уживающегося со средой, не обращающего внимания на ее странности, спокойно реагирующего, то есть буквально никак не реагирующего на ее нелепости; для него все равно, где жить, главное – закончить работу. Форма работы проста: стучать на машинке, непременном атрибуте умственной деятельности, столь же убедительном, как извечные мигающие лампочки и коридоры, полные приборов, которые нам демонстрируют в документальных фильмах из жизни ученых – для вящего трепета профанов. Всякую свободную минуту Малянов, ни секунды ни размышляя, бросается на этой машинке печатать и делает это в хорошем темпе. Суть работы герой отрывочно излагает в разговоре с другом и сестрой: по его наблюдениям, в семьях баптистов и адвентистов заболеваемость в пять раз меньше, чем в обычных (атеистических? мусульманских?). Соседу Снеговому он называет точную тему работы: «Ювенильная гипертония в старообрядческих семьях». Хотя не ясно, отчего не повезло правоверным православным, не сектантам и не раскольникам, смысл открытия Малянова ошеломляюще оригинален: оказывается, верить в Иисуса Христа полезно для здоровья.
Если бы эта бескрылая прагматическая пошлость была действительно смыслообразующей фильма, уровень его философствования можно было бы смело признать очень близким нулю. Но, несмотря на то, что мальчик-ангел, слетевший к герою, читая его труды, в скорбном сочувствии поникает головой, а мертвый Снеговой в день затмения предупреждает Малянова об опасности выхода «за круг», две-три фразы, скоренько проговоренные и ничем не подкрепленные, ни одним жизнерадостным баптистом, лишенным гипертонии, быстро улетучиваются из сознания.
Пожалуй, ни форма работы, ни суть ее не занимают режиссера, восхищенного героем. Тут главное – он сам, русский советский молодой человек, несколько приземистый, но с хорошо развитой мускулатурой, выгоревшими прядями волос, падающими на лицо, с рассеянной полуулыбкой юноши, который сам не знает, чего он хочет. Судя по классному кульбиту с подоконника, который Малянов исполняет во время затмения, он отлично смотрелся бы на футбольном поле или играющим в мяч на берегу моря – за пишущей машинкой ему куда менее вольготно.
Лицо Малянова (Алексей Ананишнов) производит впечатление давнего и прочного знакомства. Потому что именно такое лицо глядело и глядит на нас со всех агитплакатов вроде «Слава труду», «Счастье каждого – забота всех», «Советский спорт – самый массовый в мире» и т. п. Оно, это лицо, не оставляет никаких сомнений в своей национальной и государственной принадлежности, но не имеет и тени духовной значительности. Поэтому когда в одной из сцен фильма Малянов крутит радиоприемник, а оттуда звучит речь Л. И. Брежнева на съезде комсомола, это не выглядит ироническим контрапунктом. Малянов отлично вписывается в параметры этой речи: он тот самый советский юноша, преданный труду, преодолевающий препятствия, о благе которого печется незабвенный Леонид Ильич.
Ознакомительная версия.