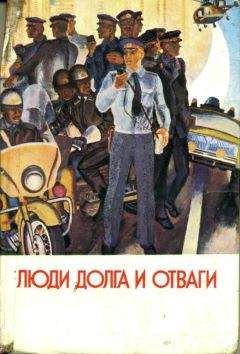— Кланяюсь, Яков Савельевич… Поклон супруге и дочери.
Выйдя из квартиры, где проживают Пожамчи и Шабаев, лысый направился в дом Кропотова; там он провел двадцать семь минут (часы оказались у вновь присланного сотрудника, время теперь даю точное) и вернулся домой. Кропотов через сорок минут вышел из дома и направился на Театральную площадь, где имел встречу с Газаряном, который передал ему чемоданчик.
Горьков.
— Главный вопрос, который меня мучает, Глеб Иванович, — докладывал Будников Глебу Бокию, — это куда делся Шелехесов пакетик? В Кремле пакетик-то остался, Глеб Иванович.
Бокий поднялся из-за стола, потерся спиной об угол большого сейфа — позвоночник немел все чаще, левая нога делалась неживой, тяжелой. Спросил:
— Кто ему пропуск заказывал?
— Не отмечено.
— Голову за это надо снимать. Сообщите коменданту: пусть дежурного отдадут под трибунал за ротозейство… Продумайте ваши предложения. Феликс Эдмундович скоро вернется с заседания Политбюро, я хочу с ним посоветоваться.
— Брать надо всех, Глеб Иванович. Цепь замкнулась: Белов — Прохоров — Газарян — Шелехес — Пожамчи — Кропотов.
— А дальше? Куда поведет нас Кропотов? Кого навещал в Кремле Шелехес? Где его посылочка? Нет, рано еще, Володя. Сейчас надобно смотреть в оба и не переторопить события.
Дзержинский слушал Бокия очень внимательно. Потом он отошел к большому итальянскому окну и долго смотрел на площадь, всю в трамвайном перезвоне, криках извозчиков и звонких голосах мальчишек — продавцов газет.
— Зря отчаиваетесь, Глеб, — сказал он, выслушав Бокия. — В том, что вы для себя открыли, нет ничего противоестественного. Старайтесь всегда прослеживать генезис, развитие. Я просил Мессинга подготовить справочку на всех участников. Картина получается любопытная. Родители Шелехеса имели крохотный извоз на Волыни. Черта оседлости, еврейская нищета — страшнее не придумаешь… Отец Пожамчи — дворник, у бар на праздники получал целковый и ручку им целовал и сына тому учил. Кропотов. Сын раба. То бишь крепостного. Ему сейчас семьдесят, значит, и его самого барин порол на конюшне, и отца мог пороть на его глазах, и мать. Так-то вот. Газарян — сын тифлисского извозчика.
Отец Прохорова начинал с лакея: «Подай, прими, пшел вон!» И Прохоров ему помогал до тринадцати лет. Впрочем, Прохоров — особая статья, мы еще к нему вернемся. Люди помнят нищету — причем особо обостренно ее помнят люди, лишенные общественной идеи, то есть люди среднего уровня, выбившиеся трудом и ловкостью в относительный достаток. Мне один литератор как-то сказал: «Вы не можете себе представить, что значит таскать на базар подушки!» Эта фраза — ключ к пониманию многих человеческих аномалий, Глеб. До тех пор, пока будет нищета, люди, выбившиеся из нее, станут делать все, что только в их силах, дабы стать еще богаче, чтобы гарантировать себя и детей от того ужаса, который они так страшно помнят сызмальства. Поворошите память: самые четкие воспоминания у вас остались с времен детства?
— Нет, — возразил Бокий. — Каторга.
— Ничего подобного, — досадливо поморщился Дзержинский. — Что вам дороже: лицо отца; луг, который вы увидели первый раз в жизни; ряженые на святках; горе вашей мамы, когда вас нечем было кормить, или жандармскую рожу в камере следователя? Вот видите… Спорщик этакий… Капитулируете?
— Нет. Соглашаюсь, — улыбнулся Бокий.
— Тогда извольте следовать далее… Страх перед возможной нищетой способен подвигнуть человека и на высокие и на мерзостные деяния. Вот вам ответ на наши страхи.
— Тогда надо исповедовать Ломброзо — все зло в том или ином индивиде…
— Человек, индивид, как вы изволили сформулировать, живет не в безвоздушном пространстве, Глеб. Мы теперь идем к главному: переворошить Россию, изжить завистливого, подсматривающего в замочную скважину мещанина, привести к рубежам научной революции новых людей. Ты умеешь, ты талантлив, ты работящ — достигнешь всего, о чем мечтаешь! Как это ни тяжко говорить, Глеб, но, сколько бы мы сейчас ни карали, язв нищеты не выведем: они должны рубцеваться временем. Вдумайтесь, отчего Ленин повторяет изо дня в день: учитесь, учитесь и еще раз учитесь? Отчего он так носится с Рамзиным, Графтио, с Павловым?! Думаете, они лестно говорят о нас? Мне сдается, что они внуков не чертом, а чекистом пугают. И далеко не со всем происходящим согласны… А почему Ленин с ними так возится? Вдумайтесь! Потому что наука сама по себе рождает качественно новых людей…
— Вы говорите, Феликс Эдмундович, а мне так и хочется Пожамчи с Шелехесом отпустить на все четыре стороны.
— Нет, их надо расстреливать, Глеб, они воруют бриллианты, на которые Запад продаст нам оборудование для электростанций. Диалектика — вещь жестокая, неумолимая, она не прощает двусмысленностей и отступлений от курса… Если мы хотим видеть нашу страну государством высокой техники, нам придется немилосердно расстреливать всех тех, кто страх за собственное благополучие — по-человечески это можно понять — ставит выше нашей мечты, причем не химерической, а научно выверенной.
— Когда вы позволите доложить прикидку операции по Гохрану? — спросил Бокий.
— Сомнения ваши прошли?
— Прошли.
— Тогда посидите, сейчас должен подойти Юровский, мы подключаем его к этому делу.
Юровский слушал Бокия, тяжело набычив голову, выставив вперед нижнюю челюсть. Иногда он делал заметки на папиросной коробке: Дзержинский отметил для себя, что Юровский точно схватывает существо дела.
— С Пожамчи легче, — сказал Юровский, выслушав Бокия. — Его надо пригласить в Наркомвнешторг и сказать, что отъезд назначен на завтра. Он притащит наших людей в свой тайник, если он у него оборудован не дома, а где-то в ином месте… Теперь с Шелехесом… По-моему, стоило бы меня нелегально ввести в Гохран…
Дзержинский покачал головой:
— У них своя контрразведка. Юровский не иголка в стоге сена, вас знают. Введем вас открыто, как ревизора от ЦК. Вести вам предстоит себя эдаким ваньком, который умеет давать указания, а вникать в суть не может. Тогда вы прищучите их на частностях. Нас волнует главное — как они организовывают хищения, потому что ревизии пока были благополучные. Тут следует поглядеть на будущее — лучше покарать один раз, чем бесконечно размазывать кашу по мостовой…
— Феликс Эдмундович, — спросил Юровский, — этот Шелехес — не родственник нашему Федору?
— Родной брат, — ответил Дзержинский. — И я верю Федору так же, как раньше.
Михаил Матусовский
К ВЫНОСУ ЗНАМЕНИ — ВСТАТЬ!
Слово знакомой команды
Слышу опять и опять.
Вносится Знамя Победы.
К выносу знамени — встать!
Встать перед теми, кто падал
Грудью на лающий дот.
Кто из трясин новгородских
К нам никогда не придет.
Кто на речных переправах
Шел, словно камень, ко дну.
Кто на века безымянный
Канул в фашистском плену.
Кто согревался дыханьем
В стужу блокадных ночей.
Кто улетал вместе с дымом
Из бухенвальдских печей.
Кто перехватывал с ходу
Корсунь-Шевченковский шлях.
Кто подрывался на минных,
Смертью набитых полях.
Кто, ослепленный ракетой,
Вдруг попадал под обстрел,
Кто в умирающем танке
Вместе с бронею горел.
Кто зарывался в траншеи,
Землю ногтями скребя,
Шквальный огонь «фердинандов»
Как бы приняв на себя.
Кто ради правого дела
Сердце отдать был готов.
Кто под машины ложился
Вместо понтонных мостов.
Кто за родные пределы
Гнал чужеземную рать…
Вносится Знамя Победы.
К выносу знамени —
встать!
Лидия Гречнева
БРЕСТСКИЙ ВОКЗАЛ
Рассказ Антона Васильевича Кулеша, работника линейного отделения милиции станции Брест-центральный:
21 июня я заступил на дежурство в полночь. Вышел из дома вместе с братом Михасем, который гостевал у нас и возвращался к себе, в Брест. Ночь была теплая, светлая, самая короткая в году. Утром за огородами выкосили луг, и от привядшей травы шел густой сладкий дух. После жаркого дня дышалось легко. Мы шли не торопясь, делясь слухами о скорой войне, которые становились все настырнее. В городе обыватели расхватывали крупу, соль, спички, керосин. Было очень тревожно, но в войну не верилось. Не хотелось верить! Только ведь жить стали по-человечески, и двух лет после освобождения не прошло.