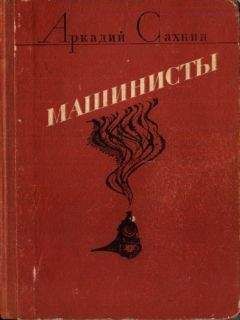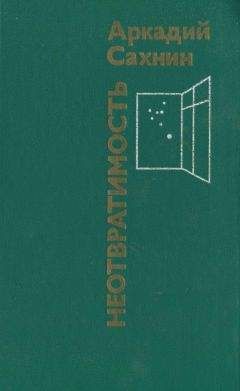— Не надо, Витя, я ведь вижу. Что же ты от меня таишься?
Просыпаясь ночью, он лежал не шелохнувшись, боясь разбудить ее. Но стоило ему открыть глаза, как раздавался ее голос:
— Спи, Виктор, еще рано.
Все депо наблюдало за борьбой Дубравина. Приходили старые машинисты, чтобы помочь ему. Забегал на паровоз секретарь партийного бюро. Предлагали свою помощь комсомольцы. Кое-кто выжидал: «Ну-ну, посмотрим». Чеботарев в присутствии многих машинистов сказал: «Говорят, на старую машину запросился, а?»
За помощь и сочувствие благодарил Виктор, насмешки сносил молча.
Прошло два месяца. Шестьдесят тяжких дней. Шестьдесят бессонных ночей.
В очередной день зарплаты Дубравин впервые за эти месяцы не взял денег со сберкнижки.
Вечером он присутствовал на городском партийном активе.
В конце своего доклада секретарь горкома сказал:
— Успех нашего движения вперед не в том, чтобы ставить рекорды, создавая для этого особые условия отдельным людям. Успех зависит от таких людей, как Виктор Дубравин, взявшего на свои плечи тяжелую и, по мнению других, невыполнимую задачу. — И он рассказал историю с паровозом Дубравина, занявшего первое место в депо.
— Городской комитет Коммунистической партии Советского Союза, — закончил он, обведя взглядом зал, — поручил мне поздравить вас, Виктор Степанович, с большой победой.
Раздались дружные аплодисменты. Люди смотрели по сторонам, ища Дубравина. Он сидел в предпоследнем ряду. Когда была названа его фамилия, он смешался. Он не знал, что делать.
— Встань! — толкнул его локтем сосед.
Он встал и начал неловко кланяться. Теперь весь зал смотрел на него и аплодировал ему. Это было мучительно радостно. Он подумал: «Маше бы послушать в награду за все ее муки».
— Товарищи! — сказал секретарь горкома, наклонившись к самому микрофону. — Я думаю, не страшно, если мы немного нарушим обычный порядок собрания. Есть предложение дополнительно избрать в президиум товарища Дубравина.
И снова грянули аплодисменты. Секретарь еще что-то говорил, слов не было слышно, но по его жесту Дубравин понял: приглашают в президиум.
— Иди же, — снова подтолкнул его кто-то.
Он выбрался из своего ряда и удивился, какая длинная ковровая дорожка ведет к сцене. Он шел одни по этой широкой и мягкой дорожке через весь зал, и гремели аплодисменты, и люди поворачивали головы, провожая его, и он не мог решить, быстро ему надо идти или медленно.
Конечно, торопиться нельзя, будто только и ждал, как бы быстрее попасть в президиум. Но двигаться медленно еще хуже. Подумаешь, важность какая — плывет и задерживает все собрание. И в унисон своим мыслям он то замедлял, то ускорял шаг. И пока он шел через весь улыбающийся ему зал, так и не решил, куда ему надо смотреть. Идти, наклонив голову, как хотелось бы, неудобно. Люди приветствуют его, а он, гордыня, даже не взглянет на них. А смотреть всем в глаза — вот я какой герой, любуйтесь! — и вовсе нельзя.
Он злился на свои глупые мысли, но другие в голову не приходили.
Когда поднялся, наконец, по лесенке на сцену и хотел примоститься где-нибудь сзади, кто-то подтолкнул его к столу, в первый ряд президиума, где для него освободили место.
И тут в голову пришла уж совсем нелепая мысль. Он подумал, что его уже дважды подталкивал сосед, чтобы он встал и шел на это почетное место, и что давно-давно его тоже подталкивали, но не в президиум, а к «запертой» монастырской двери и к высокому дереву у каменной ограды, утыканной осколками бутылок, и какой он молодец, что все же вернул ботинки…
Во время перерыва его поздравляли знакомые и не то в шутку, не то всерьез говорили: пусть и не думает так просто отделаться, а сразу же после актива ведет в ресторан.
И тут к радостному возбуждению, в каком находился Виктор, примешалось вдруг что-то досадное. Будто чего-то еще не хватало, что-то было не досказано. Это мешало ему в полной мере насладиться счастьем.
Неожиданно Виктор решил купить Маше подарок, и от этой мысли сразу стало легче на душе. Хорошо бы цветы. Он никогда не дарил ей цветы. И не рвал для нее цветов. А когда доводилось им вместе бывать в поле, она собирала их сама. И вообще он ничего ей не дарил. День рождения или Восьмое марта не в счет. Подарки в такие дни — обязанность каждого. Да и то они всякий раз вместе советовались, что именно он должен ей подарить. И она же давала деньги на подарок, потому что зарплату он приносил ей, а брать в сберкассе было ни к чему. Часто получалось так, что, коль скоро он идет в магазин, пусть заодно возьмет мыло — уже кончается, и, самое главное, пару катушек ниток, потому что белые давно вышли, а она все забывает купить, и просто стыд и срам — пуговицу пришить нечем,
Виктор приносил свой подарок в общем свертке с хозяйственными вещами, и это был уже не подарок, а неизвестно что.
…О цветах сейчас и думать нечего, их не достанешь, Да и вообще магазины уже закрыты. Он отошел в сторонку, чтобы меньше попадалось знакомых, и оказался возле большого книжного прилавка. На стене надпись: «Книга — лучший подарок», Ему не хотелось покупать книгу.
Он вспомнил, что тут же, в фойе, есть еще один прилавок, где торгуют местными кустарными изделиями. Здесь ничего хорошего не оказалось. Безвкусно сделанные шкатулки, уродливые статуэтки, гуси, похожие на кенгуру, и другие некрасивые безделушки. Его внимание привлекла лишь очень смешная куколка из пластмассы. Это был негритенок. Вернее, маленькая негритянская девочка. Она придерживала края широкой юбочки, похожей на пачку балерины, и, казалось, вот-вот присядет в реверансе. Круглое личико и большие глаза с голубоватыми белками, губы надуты. Еще секунда — и она расплачется. На ее трогательную фигурку и лицо нельзя было смотреть без улыбки.
Он купил куколку. Продавщица завернула ее, и он положил сверточек в боковой карман, перевернув его, чтобы куколка лежала не вниз головой, как ее подала девушка, а в нормальном положении.
Когда Виктор вернулся домой, Маша сказала:
— Сейчас разогрею ужин, — и отложила в сторону свое шитье.
И снова, как там, в зале горкома, Дубравину стало обидно за Машу. Он усадил ее на диван и стал рассказывать о собрании. Она слушала молча. На лице ее была радость. Когда Виктор окончил, она попросила, чтобы он еще раз и со всеми подробностями, не торопясь пересказал, как он шел на сцену, и как весь зал аплодировал ему, и кто из знакомых там был.
— Ну что ты, Машенька, — взмолился он, вставая. — Вот поставь куда-нибудь. — И он достал из кармана свою покупку.
— Что это? — поднялась и она.
— Да так, безделушка, — небрежно ответил Виктор Степанович.
— Ничего не понимаю. В куклы у нас некому играть, да и где ты ее взял, не на активе же?
— На активе, — сказал он, словно оправдываясь. — Для тебя купил… Ничего подходящего не было, понимаешь?
— Для меня?.. Ты там подумал обо мне, да? — Лицо у нее стало серьезным, озабоченным.
— Ну да, вот видишь… совсем безделушка… пятьдесят копеек стоит… просто так… — Он говорил и видел, что Маша сейчас заплачет, и не знал, что еще сказать.
И она действительно расплакалась и, не выпуская из рук куколки, обняла его, а он не стал успокаивать ее или задавать вопросы, а только гладил ее волосы.
Потом она поставила куколку на комод, на самое видное место, и сказала:
— Будем ужинать.
Она вышла в другую комнату, вернулась с чистой скатертью и в другом платье, начала накрывать на стол не в кухне, как обычно, а в большой комнате. То и дело поглядывала на комод, а когда выходила, на куколку смотрел Виктор, Он неожиданно заметил, что у куколки вовсе не обиженный, а просто удивленный вид и совсем не хочется ей плакать, а складки у губ, потому что она сейчас улыбнется. И как только ему могло померещиться, будто она обижена…
На следующий день Владимир Чеботарев узнал все, что говорил секретарь горкома. С тех пор он и стал придираться к Дубравину. Делал это очень умно и не грубо. Он был находчив и остроумен и умел безобидными на первый взгляд шуточками высмеять человека. Виктору трудно было сладить с ним, и он начал просто избегать Чеботарева. Но тот не сдавался. Стоило Дубравину выступить на собрании, как он находил повод, чтобы свести это выступление на нет.
Когда обсуждался поступок машиниста Гарченко и Виктор предложил не наказывать его, все знали, что Чеботарев потребует сурового наказания. Так оно и оказалось в действительности.
Владимир говорил красиво и остроумно, решительно осуждая анархию, которая до добра не доведет. Он выразил удивление, как мог столь авторитетный и всегда точный в своих действиях старший машинист Дубравин поддержать такую партизанщину, и предложил объявить Гарченко выговор.
Выступление его не понравилось. Сам Чеботарев недавно был понижен в должности за лихачество, едва не приведшее к аварии. Не понравилось и потому, что машинисты его не любили. И все дружно проголосовали за предложение Дубравина.