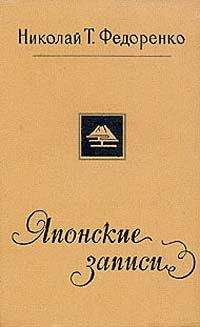– Поднятие потолка в японском доме, – замечает Охара сэнсэй, – не повлекло изменения традиционных размеров фусума и седзи. Добрые старинные манеры требуют соблюдения сидячей позиции при открытии и закрытии скользящих створок. Соответственно изменяется лишь «кокабэ» – стабильная часть стены, соединенная с потолочным перекрытием.
– Не свидетельствует ли поднятие потолка о том, что японцы постепенно «становятся на ноги»?
– Несомненно, японцы теперь меньше времени сидят на полу, больше ходят в своем доме. Мы, можно сказать, все решительнее «становимся на свои ноги». Это, конечно, в некоторой степени способствует постепенному изменению физических данных японцев, сказывается на их росте, на довольно заметном у молодого поколения удлинении нижних конечностей. В этом, разумеется, существенную роль играет и изменившийся в последние десятилетия рацион, который содержит сейчас больше молочных продуктов, мучных и мясных изделий.
Стремительное развитие жизни и чрезвычайно расширившиеся связи Японии с внешним миром приносят зримые изменения в японский быт и образ жизни. И мы видим, как многие японцы уже предпочитают меньше сидеть на татами, прибегают к европейской мебели, пользуются иностранной кухней, живут в европейских домах, носят не национальное кимоно, а европейские костюмы. Все это заметно меняет не только облик японского быта, но в известной мере и существо японской жизни. Но, разумеется, не все, отнюдь не все японцы подвержены весьма интенсивно развивающемуся процессу европеизации. Подавляющая масса японцев, особенно живущих в сельской местности, продолжает сохранять свою приверженность к национальным обычаям, традициям, самобытному образу жизни. Многочисленные национальные особенности японской жизни обладают необыкновенной жизнестойкостью. Они формировались на протяжении тысячелетий, в ходе исторического становления самой японской нации, в непрестанной борьбе, социальной и духовной. Они органически связаны со всей культурой японского народа и в своем существе неотделимы от самого его существования.
Вместо ковров и дорожек весь пол комнаты покрыт легкими соломенными матами – татами, эластичными циновками салатного цвета, обшитыми по краям коричневой лентой. Татами изготовляются определенного стандарта – около двух метров длины и одного метра ширины. Площадь японской комнаты и дома измеряется числом татами. Мы находимся сейчас в комнате из восьми татами.
Слово «татами», как разъясняется в японском этимологическом словаре, восходит к глаголу «татаму» – «складывать», «сгибать», «загибать» – и первоначально означало тонкую постилку из соломки, которая легко складывалась и убиралась. Нынешние плотные татами изготовляются из плетеной рисовой соломки, выращиваемой в Японии в течение многих столетий. Особенно ценятся свежие циновки. Они красивы и наполняют дом полевым травянистым ароматом.
По углам комнаты установлены деревянные колонны – почти не обработанные стволы деревьев. С них лишь снята кора, обрублены ветви, тщательно зачищены суки, но очень бережно сохранен их натуральный вид, вся первородная фактура дерева. Поверхность ствола, освобожденная от коры, не обрабатывается, не строгается, а лишь покрывается тонким слоем светлого лака для предохранения древесины от разрушения. Некрашеное дерево с годами темнеет, дает восхитительный узор и действует на редкость успокаивающе. Во всем этом ощутимо обнаруживается развитый вкус, эстетическое отношение к окружающим человека предметам.
Деревянные столбы, которые несут на себе конструктивную нагрузку и одновременно выполняют декоративную функцию, неподвижные простенки кокабэ над скользящими створками фусума, продольные балки с внутренними углублениями – нагэси – прочно связаны между собой потолочными перекрытиями на высоте немногим более двух метров и образуют единую архитектурную и художественную композицию. Здесь также видна органическая слитность архитектуры с декоративным искусством, на наш взгляд отнюдь не банальным, свежим, оригинальным. Все это создает приятное зрелище.
Поражает удивительная простота японской столовой. Ничего громоздкого, тяжелого, лишнего. И мне показалось, что дом мой, по меткому слову И. Эренбурга, чудовищно захламлен, завален вещами, вовсе ненужными предметами. Такое впечатление, что на моем письменном столе нагромождено несравненно больше вещей, чем во всей этой комнате. Никаких кресел, диванов, стульев, традиционных столов, занимающих обычно чуть ли не всю комнату. На первый взгляд – пустая комната, но необыкновенно изящных пропорций. Естественность, безыскусственность и простота, столь ценимые самобытным японским стилем.
Следует, однако, отметить, что не все здесь без скрытого смысла. Японский дом, заметил как-то Охара сэнсэй, напоминает чемодан с двойным дном. У него своя тайна, свои секреты. В стенах – внутренние шкафы, внешне декоративно замаскированные. В известном смысле японский дом более конструктивен и целесообразен, чем, в частности, железобетонные сооружения европейской архитектуры.
Мы снова усаживаемся, подгибая под себя ступни, на разложенные в центре комнаты поверх свежих татами плоские подушки, отнюдь не воздушные, но и не жесткие. Выпуклым шитьем из шелковых ниток на них изображены стилизованные фениксы и драконы. Гостю предлагается занять почетное место у «токонома» – парадной ниши в стене. В ней на стене обычно висит «какэмоно» – картина, написанная тушью на бумаге; на подставке стоит ваза с цветами – бронзовая на керамике.
С одной стороны ниши, рядом с бамбуковым стволом, который служит декоративной колонной, выставлен свиток с изображением единственного иероглифического знака – «долголетие». Он выполнен черной тушью в манере древнекитайских мастеров – единым, непрерывающимся движением большой кисти. В почерке каллиграфа обнаруживается уверенность и динамизм. Свиток представляет собой не просто графическое изображение знака. Это – произведение искусства, каллиграфическая живопись, которая доставляет японцам не меньшее эстетическое удовлетворение, чем художественная картина. Нередко произведениям каллиграфической живописи отдается предпочтение. Они неизменно украшают дом буквально каждого японца. Каллиграфические свитки, выполненные прославленными мастерами древности, оцениваются в Японии наравне с выдающимися работами крупнейших художников с мировым именем.
Заметив мое любопытство, Охара сэнсэй извлекает из стоящей рядом вазы несколько рулонов и осторожно разворачивает их перед моими глазами, заметив, что искусство каллиграфической живописи – одно из наиболее самобытных явлений японской культуры. Каллиграфия – особый вид изобразительного искусства, высоко ценимый в Японии не только людьми образованными, но даже и малограмотными. Относительная близость иероглифики к рисуночному письму, передающему понятие через обобщение, позволяет каллиграфу-художнику разнообразными вариациями штрихов, положением кисти и т. п. добиться подлинно художественного эффекта, который даже человеку, незнакомому с иероглификой, дает понятный намек на существо изображаемого. В каллиграфии, добавил он, мы видим не только графическое искусство мастеров кисти, туши и бумаги. В нем – философские воззрения их авторов, взлеты их мечтаний, глубокие раздумья.
И вот перед нами эти древние и новые свитки с иероглифической вязью многообразных стилей и почерков, разных по замыслу, но неизменно динамичных, выразительных, исполненных жизни. Свой неповторимый характер, индивидуальность каждого мастера легко угадывались и по личной манере письма, и по силе штриха – то сплошного, монолитного и непроницаемого, то прерывистого, точно незаконченного, с воздушными пропусками, будто у кисти иссякла тушь.
В самобытной иероглифической каллиграфии находят свое отображение дух времени, определенные приметы эпохи. Если для наиболее раннего периода письменности характерны рисуночные штрихи иероглифических знаков, подобные «птичьим следам» или «головастиковым письменам», то для раннего средневековья весьма показательны работы прославленных поэтов и каллиграфов с их неповторимой вязью скорописных знаков «цаоцзы» – «травянистых иероглифов», курсивного письма с заостренными и выпрямленными штрихами, а также четко выписанными уставными иероглифами.
– Не правда ли, своеобразна стилевая манера исполнения? – не без восхищения говорит Охара сэнсэй, поймав мой сосредоточенный взгляд, устремленный на иероглифический свиток.
– Написано смело, кажется, одним движением кисти, с большой экспрессией. Невольно напрашивается аналогия с жар-птицей, с красотой оперения которой только и можно сравнить совершенство каллиграфии.
– Примечательна также семантическая судьба иероглифа и слова «долголетие». Первоначально, когда этот знак, как и вся китайская иероглифическая письменность, был адаптирован японцами, он, как известно, означал «многие годы», «продолжительность жизни», «долголетие», «долгая жизнь», «день рождения», «пить за здоровье», «провозглашать тост»… Именно в этом смысле он употреблялся на протяжении столетий. Не утрачено им это значение и в настоящее время. Однако теперь в Японии знак «долголетие» применяется главным образом как «поздравление», например с днем рождения, счастливым событием, Новым годом. Эта своеобразная трансформация, по всей вероятности, произошла вследствие того, что в Японии лучшим поздравлением и самым добрым пожеланием всегда считалось пожелание долгих лет жизни, долголетия. «Из всех благ жизни долголетие – высшее благо», – гласит японская народная мудрость. Весьма благожелательными считаются изображения журавля и черепахи, являющихся традиционными символами долголетия. Черепаха и журавль – соперничающие образы долголетия. Это отражено и в народной поговорке: «Журавль позавидовал долголетию черепахи». «Сетикубай» (сочетание бамбука, сосны и сливы), изображения журавля и черепахи, а также иероглифические знаки «долголетие» и «счастье» – характерные атрибуты свадебных церемоний в национальном духе. И я вижу – на противоположной стене комнаты висят свитки на длинном, вытянутом, как штука мануфактуры, листе шелковистой бумаги, испещренные крупными знаками, начертанными размашистым и уверенным почерком. На одном из них – строки Рансэцу (1652–1707), ученика знаменитого Басе: