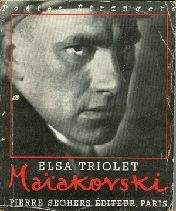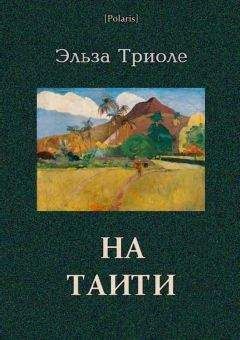Я еще не видал, чтобы кто-нибудь хвастался так:
"Какой я умный — арифметику не понимаю, французский не понимаю, грамматику не понимаю".
Но веселый клич:
"Я не понимаю футуристов" — несется пятнадцать лет, затихает и снова гремит возбужденно и радостно.
На этом кличе люди строили себе карьеру, делали сборы, становились вождями целых течений.
Если все так называемое левое искусство строилось с простым расчетом не быть никому понятным (заклинания, считалки и т. п.) — понять эту вещь и поставить ее на определенное историко-литературное место нетрудно.
Понял, что бьют на непонятность, пришпилил ярлык и забыл.
-----------------------------------------
Простое "мы не понимаем" — это не приговор.
Приговором было бы: "Мы поняли, что это страшная ерунда", и дальше нараспев и наизусть десятки звонких примеров.
Этого нет.
Идет демагогия и спекуляция на непонятности.
Способы этой демагогии, гримирующиеся на серьезность, многоразличны.
Смотрите некоторые.
"Искусство для немногих, книга для немногих нам не нужна.
Да или нет?"
И да и нет.
Если книга рассчитана на немногих, с тем, чтобы быть исключительно предметом потребления этих немногих, и вне этого потребления функций не имеет, — она не нужна.
Пример — сонеты Абрама Эфроса, монография о Собинове и т. д.
Если книга адресована к немногим так, как адресуется энергия Волховстроя немногим передаточным подстанциям, с тем, чтобы эти подстанции разносили переработанную энергию по электрическим лампочкам, — такая книга нужна.
Эти книги адресуются немногим, но не потребителям, а производителям.
Это семена и каркасы массового искусства.
Пример — стихи В. Хлебникова. Понятные вначале только семерым товарищам-футуристам, они десятилетие заряжали многочислие поэтов, а сейчас даже академия хочет угробить их изданием как образец классического стиха.
"Советское, пролетарское, настоящее искусство должно быть понятно широким массам.
Да или нет?"
И да и нет.
Да, но с коррективом на время и на пропаганду. Искусство не рождается массовым, оно массовым становится в результате суммы усилий: критического разбора для установки прочности и наличия пользы, организованное продвижение аппаратами партии и власти в случае обнаружения этой самой пользы, своевременность продвижения книги в массу, соответствие поставленного книгой вопроса со зрелостью этих вопросов в массе. Чем лучше книга, тем больше она опережает события.
-----------------------------------------
Массовость — это итог нашей борьбы, а не рубашка, в которой родятся счастливые книги какого-нибудь литературного гения.
Понятность книги надо уметь организовывать.
"Классики — Пушкин, Толстой — понятны массам.
Да или нет?"
И да и нет.
Пушкин был понятен целиком только своему классу, тому обществу, языком которого он говорил, тому обществу, понятиями и эмоциями которого он оперировал.
Это были пятьдесят-сто тысяч романтических воздыхателей, свободолюбивых гвардейцев, учителей гимназии, барышень из особняков, поэтов и критиков и т. д., то есть те, кто составлял читательскую массу того времени.
Понимала ли Пушкина крестьянская масса его времени, — неизвестно, по маленькой причине — неумению ее читать.
---------------------------------------
Я читал крестьянам в Ливадийском дворце. Я читал за последний месяц в бакинских доках, на бакинском заводе им. Шмидта, в клубе Шаумяна, в рабочем клубе Тифлиса, читал, взлезши на токарный станок в обеденный перерыв, под затихающее верещание машины.
Приведу одну из многих завкомовских справок:
"Дана сия от заводского комитета Закавказского металлического завода имени "Лейтенанта Шмидта" тов. Маяковскому Владимиру Владимировичу в том, что сего числа он выступил в цеху перед рабочей аудиторией со своими произведениями.
По окончании читки тов. Маяковский обратился к рабочим с просьбой высказать свои впечатления и степень усваимости, для чего предложено было голосование, показавшее полное их понимание, так как "за" голосовали все, за исключением одного, который заявил, что, слушая самого автора, ему яснее становятся его произведения, чем когда он их читал сам.
Присутствовало — 800 человек".
Я привожу цитаты из этой статьи, написанной в 1928 году для того, чтобы показать насколько прочным был этот миф о непонятности и как Маяковский пытался доказать, что его породили не рабочие с крестьянами, а буржуазия и тот конкретный тип интеллектуала, который видел в нём злого врага, и продолжал делать это до самой его смерти.
Сегодня мы все способны без труда понять его стихи — язык нам так же привычен, как наш родной — но в то время, о котором я пишу, всё было совсем иначе. Его самые первые стихи, написанные в 1912 году — самые странные. То, как он обрывал слова, его немногословный стиль, новаторское построение предложений, сотворение совершенно новых слов — это слишком много для того, чтобы внезапно принять… В особенности, когда людям в первую очередь не хотелось утруждать себя.
Это стихи также странно смотрелись в напечатанном виде: он восполнял несоответствие пунктуации разбиванием строк. И этот метод позволял ему обозначать ударение и интонации, играющие такую огромную роль в его ораторском стиле.
Маяковский нашёл ключ к своему творчеству — свой голос. Строки создавались для выкрикивания. В сотнях чтениях по всей советской России он показал, как следует декламировать его поэзию. Каждый услышавший его начинал подражать его манере при прочтении поэм другим, и те, в свою очередь, начинали делать то же. Так его работы и способ их истолкования расходились по стране устно… И сегодня по-прежнему поэзия Маяковского распространяется по СССР, как лесной пожар.
Его голос! Даже его использовали против Маяковского типажи, считавшие, что поэзию следует читать при свете лампы. И не то чтобы кто-либо спорил с их точкой зрения, включая самого Маяковского, ответившего следующим:
Революция не означает конец традиции. Революция — не про разрушение, а скорее усовершенствование завоёванного с использованием технологии и прагматизма.
Книга никогда не заменит чтение вслух. Книга в своё время заменила рукопись, но с рукописи началась книга. Трибуна, платформа всегда будут играть важную роль, но теперь до более широкой аудитории можно дотянуться через радио. Радио, вот решение проблемы (одно из них, во всяком случае) слова, призыва, поэзии. Поэзия больше не только для глаза. Революция дала нам слово, которое можно услышать, поэзию, которую можно услышать. Лишь немногим счастливчикам удалось слушать Пушкина — а как это, наверное, вдохновляло — что ж, теперь у всех есть эта возможность.
(Лекция. 1927)
Конечно же, Маяковскому хотелось, чтобы его поняло как можно больше слушателей. Даже в эпоху футуризма, когда проблема того, поймёт его более широкая аудитория или нет, попросту не стояла, Маяковский никогда не использовал "Заум" (трансментальный язык), который гениально применял, к примеру, Хлебников. Некоторые поэты всё ещё используют его сегодня — их таланты более спорны.
Примерно в 1923 году Горький посетил чтения "Заум" и сказал, что почувствовал такой сильный стыд за своё присутствие там, что вновь встретившись с кем-нибудь, кто был на том вечере, он начинал вести себя так, как будто они оба когда-то одновременно посетили публичный дом… Ужасно смущённо, немного стыдливо, глупо хихикая и игриво тыча приятеля кулаком в живот.
В самой последней своей речи Маяковский сказал, что он думал, что его стихи 1912 года были самыми неразборчивыми и что именно они больше всего поднимали вопрос о непонятности его работ:
Однажды мне сказали, что мои стихи сложно понять. Я взял на себя обязательство писать так, чтобы меня поняло наибольшее количество слушателей.
(Стенограмма, 25 Марта 1930)
Уже в 1920 году Маяковский не считал себя футуристом. Тем не менее, в 1923-ом он объявил, что оставит этот термин, так как футуризм стал чем-то вроде флага для огромного количества людей. Позже он привлёк внимание к тому факту, что футуризм и Леф (Левый фронт искусств) неразделимо связались между собой в сознании публики. Леф, представленный одноимённым журналом под редакцией Маяковского и его друзей, претерпел некоторые изменения и прогорел в 1927 году.
В 1928 году во время речи о политике партии в отношении литературы мы наблюдаем сближение Маяковского с ВАПП, несмотря на то что эта организация открыто выразила своё мнение о нём — что он всего лишь "попутчик" по сравнению с настоящими пролетарскими писателями:
Я считаю себя пролетарским поэтом, а пролетарских писателей ВАППа — себе попутчиками. И сегодня на этой формуле я настаиваю. Я говорю об этом не потому, что обрушиваюсь из какого-нибудь лефовского лагеря на другие лагери, жаждущие на литературном поприще нажить себе политический капиталец, а я также утверждаю, что одряхлевшие лохмотья Лефа надо заменить, потому что у нас наблюдается лирическая контрреволюционная белиберда.